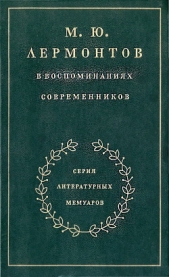Эйзенштейн в воспоминаниях современников

Эйзенштейн в воспоминаниях современников читать книгу онлайн
В сборнике воспоминаний о выдающемся мастере советского кинематографа С. М. Эйзенштейне выступают крупнейшие советские режиссеры и актеры — Л. Кулешов, Г. Козинцев, С. Юткевич, Г. Рошаль, М. Штраух, С. Бирман, Г. Уланова; композитор С. Прокофьев; художник М. Сарьян; критики Р. Юренев и И. Юзовский; зарубежные кинодеятели — Ч. Чаплин, А. Монтегю, Л. Муссинак, А. Кавальканти и другие. Они делятся своими впечатлениями об Эйзенштейне — режиссере, драматурге, теоретике и историке кино, художнике, ораторе, публицисте, педагоге.
Сборник представляет интерес как для специалистов, так и для массового читателя, интересующегося проблемами киноискусства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
15 апреля 1942 года пришла первая официальная бумага из Алма-Аты, подписанная директорам киногруппы «Иван Грозный» И. В. Вакаром:
«Многоуважаемый Николай Константинович!
Центральная Объединенная Киностудия по производству художественных фильмов готовит к постановке большой исторический двухсерийный фильм «Иван Грозный». Фильм ставит заслуж. деятель искусств Сергей Михайлович Эйзенштейн. Исполнение центральной роли Ивана Грозного в этом фильме Студия предлагает принять на себя Вам…»
Я была в отчаянии. Я уже звала, что такое Эйзенштейн и какова его власть над Черкасовым. Лихорадочно думала, что же делать, вспоминала, что уже три картины, задуманные Эйзенштейном после «Невского» («Ферганский канал», о Фрунзе и о Пушкине), сорвались. Так неужели же сейчас, во время войны, измучившей весь мир, не сорвется эта утопическая, как мне тогда казалось, затея? Но тут же вспоминала неслыханную энергию Эйзенштейна, его упрямство в работе и то, что ему ничего не стоило из лета сделать зиму.
От Новосибирска до Алма-Аты так далеко, а у нас годовалый сын. Нет‑нет, не может быть… Николай Константинович ходил мрачный. Борьба шла в нем мучительная. Он уже прочел сценарий, и я видела, что сценарий начинает всасываться, проникать в него, будущий фильм уже овладевает им.
Следующим наступлением на наш встревоженный дом было письмо Эйзенштейна ко мне:
«Дорогая Нина Николаевна!
Очень рад Вас приветствовать по поводу нашей новой творческой встречи с Николаем Константиновичем.
Я думаю, что никто как он создан для экранного образа Ивана Грозного. И лучшего повода в полной мощи снова появиться ему на экране просто не придумаешь.
Роль любопытным образом соединяет обе черты, в которых Николай Константинович так хорош и дорог зрителю: всенародную привлекательность положительного исторического героя — что было в Александре — с требованием на то тончайшее актерское мастерство, которым он так силен в Алексее.
Начинаем необходимые демарши по привлечению к этой работе. В ряде этих демаршей — и это письмо к Вам, как к наиболее решающей инстанции…
Впрочем, мне кажется, что на этот раз значение участия Николая Константиновича в этом фильме для всех нас (включая и советское кино для нас и за рубежом) совершенно самоочевидно!
В заботливости нашей группы можете не сомневаться!
Жду скорейшей встречи и остаюсь от всей души
Ваш Эйзенштейн.
15. IV.42.
Сердечный привет самому виновнику торжества!»
— А почему бы мне и в самом деле не согласиться? — говорил Черкасов. — Там более что, вероятно, картина будет отложена на «после войны», — добавлял он для успокоения семьи — маленького сына и жены, жены одержимого актера, который ради роли был готов их надолго оставить и уехать бог знает куда, «к своему Эйзенштейну», к своему Ивану Грозному.
— Ведь такая роль в такой картине — это единственный, неповторимый случай в жизни, — слышала я знакомые слова. И поняла, что он уже дал согласие сниматься в «Иване Грозном».
Фильм на «после войны» отложен не был, и в конце июня пришло письмо от Сергея Михайловича, уже собственника-режиссера, «хозяина» (как его попам называли в съемочной группе).
«Дорогой Николай Константинович!
Очень хочу, чтобы Вы приехали во второй половине июля: Елизавета Сергеевна [Телешева] будет здесь с середины июля недели три, а потом через очень большой перерыв — могли бы заняться с ней и доработали бы и все, что нужно по всей картине.
Очень советую и жду Вас.
Привет Нине Николаевне.
Обнимаю.
С. Эйзенштейн
21. VI.42».
Николай Константинович уехал в Алма-Ату на целый месяц, вернулся завороженный Эйзенштейнам и «Иваном Грозным». Опять стал говорить похоже на Эйзенштейна и опять улыбаться как-то исподлобья, как Эйзенштейн.
Вскоре Черкасов должен был уехать в Алма-Ату на съемки «Ивана Грозного».
Мне очень хочется постараться объяснить, как Николай Константинович начинал «работать» в сценическом смысле слова. Мне кажется, что и здесь он не был похож ни на кого из актеров. Перед началом спектакля или съемки он был необычайно оживлен, общителен, даже весел. Это состояние, очень радостное, приподнятое — было просто необходимо ему для того, чтобы выйти на сцену.
Перед выходом на сцену он каким-то едва заметным движением мышц успокаивал свое лицо и шел отдавать себя зрителю — всегда охотно, щедро, без остатка. Шел очень собранной, осторожной и гибкой походкой, так, как идут на ответственное задание. Шел уверенно, не спотыкаясь, не задевая декораций.
Эйзенштейн — необыкновенно наблюдательный и очень умный режиссер — сразу понял эти не очень обычные свойства Николая Константиновича и давал ему веселиться, шутить сколько душе угодно. Он охотно участвовал сам в розыгрышах и в играх Черкасова.
Черкасов очень любил цирк, смотрел и слушал по-детски, безотрывно, живо реагируя на все. Клоуны его восхищали и интересовали необычайно. И вот на съемки к Эйзенштейну он принес игру в «клоунов». Эйзенштейн спрашивал входящего в павильон Черкасова:
— О, здравствуй, Комо, што мы сегодня будем делать?
— Здравствуй, Серж. Ми бутем сегодня работать акробаты.
— Коко, а что ти нам сегодня покажешь?
— Я буду вам показать убийство Старицкого.
— О, это самечательно. Я буду смотреть твоя работа.
— Карашо. Ми сегодня приехали работать акробаты на арена Успенского собора.
Вариантов было сколько угодно, в эту цирковую игру включались клоун Мишель (М. И. Жаров), Пауль (П. П. Кадочников), который особенно был хорош в роли придурковатого князя Владимира. В сцене убийства он шел со свечой, долго озираясь и оглядываясь, а в перерывах между съемками «показывая клоуна» Пауля, великолепно пользуясь зажженной свечой как атрибутом циркового номера. Потом в игру вовлекались осветители, и все это при активном участия Эйзенштейна.
Была жара. Съемки шли на натуре. Сергей Михайлович — в пробковом шлеме. Черкасов, обливаясь потом, стонал:
— Господа, хоть бы кусочек моря, хоть бы большой арык, в котором поместилось бы мое длинное тело. У меня прямо начинаются галлюцинации. Вот я еду, именно не лечу, а еду к Черному морю, проезжаю Рязань, Тулу, Поныри…
— Стоп, — сказал Эйзенштейн, — такой станции нет по этому пути.
— То есть как нет? Это чудесная станция, в Понырях до войны все покупали жареных кур, топленое молоко, огурцы…
— Нет, царь, вы пугаете, такой станции нет. Я тоже хорошо знаю эту дорогу!
Спор был горячим и долгим.
Прошло время. И вот передо мною лежит старая телеграмма Эйзенштейна Черкасову:
«Дорогой царюга!
Проезжая Поныри — вчера, — не мог не вспомнить дорогого монарха. Обнимаю Коко. Серж».
Эйзенштейн обычно появлялся на съемке как-то внезапно. Быстрыми шагами, улыбаясь и вытянув для приветствия руки, направлялся к актерам. Собранный, подтянутый, энергичный, через минуту он был уже у аппарата, сам устанавливал композицию кадра. Своих актеров он знал досконально, начиная с их физических возможностей. Он знал, какой стороной лица актеру выгоднее сниматься; «запрещенные ракурсы» (выражение Эйзенштейна) были и у царя Ивана, и у Малюты Скуратова, и у царицы, и у других. Естественно, что актеры забывали, какая сторона их лица больше устраивает режиссера, и он каждый раз поворачивал актера так, как ему было нужно. Настроение у него менялось в зависимости от того, что и как делалось на съемке, а особенно в монтажной. Если настроение у Сергея Михайловича было хорошее, руки он держал на животе; если же, наоборот, плохое, руки были заложены за спину. В группе спрашивали:
— Где сегодня руки у Эйзенштейна?
С гримом и лицом Черкасова было особенно сложно. Он должен был постепенно стареть. Возраст Ивана Грозного в картине начинался с семнадцати лет, в последних сценах ему пятьдесят три. С лица Николая Константиновича была снята гипсовая маска. Я ее храню с тех пор. Сейчас она лежит на письменном столе Николая Константиновича, на календаре с неперевернутым листком 14 сентября 1966 года — датой его смерти.