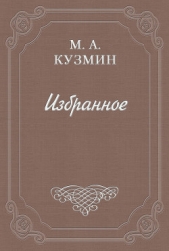Михаил Кузмин
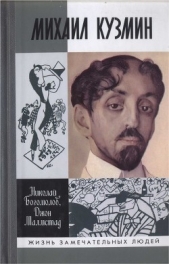
Михаил Кузмин читать книгу онлайн
Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) — поэт Серебряного века, прозаик, переводчик, композитор. До сих пор о его жизни и творчестве существует множество легенд, и самая главная из них — мнение о нем как приверженце «прекрасной ясности», проповеднике «привольной легкости бездумного житья», авторе фривольных стилизованных стихов и повестей. Но при внимательном прочтении эта легкость оборачивается глубоким трагизмом, мучительные переживания завершаются фарсом, низкий и даже «грязный» быт определяет судьбу — и понять, как это происходит, необыкновенно трудно. Как практически все русские интеллигенты, Кузмин приветствовал революцию, но в дальнейшем нежелание и неумение приспосабливаться привело его почти к полной изоляции в литературной жизни конца двадцатых и всех тридцатых годов XX века, но он не допускал даже мысли об эмиграции. О жизни, творчестве, трагической судьбе поэта рассказывают авторы, с научной скрупулезностью исследуя его творческое наследие, значительность которого бесспорна, и с большим человеческим тактом повествуя о частной жизни сложного, противоречивого человека.
знак информационной продукции 16+
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Более подробно и со знанием всей подноготной дела история рассказана в биографии историка-античника С. Я. Лурье: «Даже в начале 1933 г. С. И. Ковалев писал, что программа рабских восстаний, „поскольку она вообще существовала, была чисто реакционной. Победа рабов означала бы шаг назад… Все крупные восстания рабов падают на период расцвета рабства… А в дальнейшем кривая восстаний идет на снижение…“ [596]. Та же мысль развивалась и в специальной работе „К проблеме разложения рабовладельческой формации“ молодого аспиранта Ковалева — Л. Л. Ракова. Кончалась брошюра Ракова рассуждением о неспособности рабских восстаний перейти в революцию. 10 января 1933 г. она была подписана горлитовским цензором к печати. Приступили к печатанию тиража. Но 20 февраля, по воспоминаниям самого Л. Л., его разбудили ночью и предложили с рассветом явиться в ГАИМК. Накануне, 19 февраля, на съезде колхозников-ударников, подводившем итоги коллективизации, выступил живой классик марксизма и в несколько неожиданном историческом ракурсе объяснил, что „революция рабов ликвидировала рабовладельцев и отменила рабовладельческую форму эксплоатации трудящихся“ [597].
Сам Л. Л. Раков называл впоследствии эти дни „Десятью днями, которые потрясли рабовладельческий мир“. Тираж книги Ракова был задержан; последняя страница, где существование революции рабов отрицалось, была вырвана и заменена новой. Но и на этой новой странице еще не было гениального высказывания о революции рабов [598]: наполнить его фактическим материалом за несколько дней было невозможно» [599].
Надеемся, что это отступление не утомило читателя, поскольку оно связано с довольно важной особенностью «Нового Гуля» — его ориентацией не на внешнюю схожесть героя и прототипа, а на сходство психологическое:
В каком-то смысле «Новый Гуль» оказывается предчувствием будущей поэзии Кузмина, которая начнется уже со следующего года. В этом смысле наиболее значимо появление в «Новом Гуле» особого типа двойника (сходство между вымышленным и реальным персонажем; как сказано во «Вступлении»: «Вот он сидит (Иль это Вы сидите?) в ложе!») и комплексной игры ассоциаций.
Но встреча с Раковым породила не только цикл стихов, но и несколько отдельных стихотворений, а также небольшую пьесу «Прогулки Гуля», оконченную в марте. Кузмин, как видно это из его писем, был буквально заворожен этой пьесой, которую он называл и «пьесой», и «драмой», и «ассоциативной поэмой», и, наконец, в окончательном тексте — «театрально-музыкальной сюитой в пятнадцати эпизодах». Это произведение загадочно, но в высшей степени важно для понимания эволюции Кузмина в 1920-е годы. Тема его, как она определена писателем в предисловии к плану, знакома по многим его произведениям и является, может быть, вообще центральной темой всей его прозы и поэзии: «Поиски человека организующего элемента в жизни, при котором все явления жизни и поступки нашли бы соответственное им место и перспективу» [600] (как эта фраза похожа на многие утверждения из писем 1890-х годов, которые мы цитировали ранее!). Хорошо знаком и мотив путешествия, «прогулки» молодого человека. Но метод и организующий принцип, лежащие в основе работы, не столь знакомы. Кузмин и прежде писал стихотворения (причем некоторые из них вошли уже во вторую книгу стихов), где ассоциация человека из настоящего времени с кем-то в прошлом вызывала серию воспоминаний, в которых прошлое и настоящее переплетались. И прежде ему случалось смешивать различные культуры, мифы и времена. Но, однако, никогда прежде он не заходил так далеко в построении большого произведения на чисто ассоциативных принципах. Если снова обратиться к его предисловию, то это можно сформулировать так: «Внешнее оформление представляет собою ряд сцен и лирических отрывков, не объединенных условиями времени и пространства, а связанных лишь ассоциацией положений и слов». Вряд ли будет когда-либо выяснен генезис этого типа изображения, разного рода догадки и сопоставления тут могут носить лишь гипотетический характер до тех пор, пока мы не будем точно знать круг чтения Кузмина (а это едва ли будет достигнуто: подавляющее большинство сохранившихся материалов 1920–1930-х годов доступно нам по публикациям или по рукописям), но то, что с этого времени он начинает использоваться все осознаннее и более поздние произведения Кузмина основаны именно на этом методе, — очевидно.
Начиная работу над «Прогулками Гуля», Кузмин не думал ни о музыке, ни о том, подходит ли пьеса для театра. Однако уже в апреле было написано несколько музыкальных номеров для пьесы, и в письме Руслову от 29 апреля Кузмин говорит, что будет читать пьесу «с музыкой». Однако, видимо, музыкальные номера его не удовлетворили, поэтому пьеса была отдана композитору Анатолию Канкаровичу, уже прежде писавшему музыку к «Комедии о Алексее человеке Божьем». Новая музыка была написана, и в таком виде поэт несколько раз читал пьесу друзьям. Подобные вечера побудили Кузмина попробовать поставить «сюиту» на камерной сцене. Благодаря связям Канкаровича в музыкальном мире, этого удалось добиться, и в 1929 году под названием «Че-пу-ха (Прогулка Гуля)» пьеса была исполнена в зале Ленинградской филармонии. Нечего и говорить, что она была встречена полным непониманием и резкими рецензиями [601].
Творчество Кузмина становилось все сложнее и изощреннее, а критика все настойчивее требовала от художников той простоты, что хуже воровства. Если еще несколько лет назад Кузмин мог надеяться найти какую-то «экологическую нишу» в современной действительности, которая позволила бы ему продолжать свою деятельность поэта и прозаика пусть для ограниченной, но все же хоть какой-то аудитории, то теперь становилось все яснее, что надежды на это остается мало.
Глава шестая
Если прежде атаки в прессе были частным делом атаковавших или, в крайнем случае, выражением точки зрения определенного издания (будь то журнал или газета), то теперь подобные выступления все чаще начинали заявлять, что подвергшееся критике явление вообще подлежит уничтожению. Статья А. Волынского, о которой шла речь ранее, свидетельствовала лишь о том, что новую редакцию «Жизни искусства» статьи Кузмина больше не устраивают и она хочет порвать с ним отношения. Совсем иначе выглядела статья В. Перцова «По литературным водоразделам», автор которой хотя и не был еще официально признанным литературным авторитетом (это случилось лишь в 1960–1970-е годы), но стремительно поднимался по лестнице к подобному признанию.
Непосредственным поводом для его выступления послужила публикация «Нового Гуля» и статья «Стружки». Однако тут же снова были вспомянуты и «Занавешенные картинки», публикация которых заслужила эпитет «невероятной», а то, что они были напечатаны на «роскошной бумаге», выглядело просто преступлением и свидетельствовало о «полном духовном банкротстве» автора. От «Картинок» Перцов переходил к «Новому Гулю», считая его пригодным только для крошечной группы «ценителей старой поэзии», потому что «в них чувствуется тихая радость живущего личной жизнью». По его мнению, то же самое настроение пронизывает и взгляды Кузмина на искусство, изложенные в «Стружках»: «Это самое, но с гораздо большей остротой мог бы сказать какой-нибудь филистер в журнале „Аполлон“ за 1907 год [602]. Кузмин так думает в 1925 году. Это хуже, но пора, казалось бы, провозгласить эстетизм (как это уже сделано с религией) частным делом гражданина и, уж во всяком случае, не втягивать силком его адептов в революционную борьбу рабочих. На Кузмина нет никаких надежд» [603]. Может быть, наиболее проницательным в этом пассаже было то, что «эстетизм» Кузмина сравнивался с религией, которая в 1925 году действительно еще могла считаться «частным делом гражданина», но уже через пару лет воинствующий атеизм начал превращаться в единственно разрешенную в СССР религиозную доктрину.