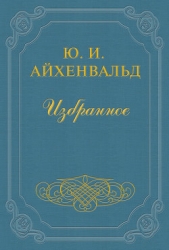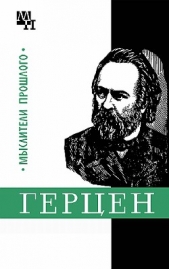Звонкий колокол России (Герцен). Страницы жизни
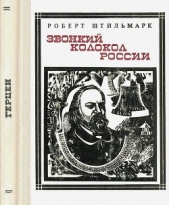
Звонкий колокол России (Герцен). Страницы жизни читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Глава третья. Московский университет — alma mater Герцена и Огарева
Юность! Ты как восходящее солнце, весь мир обливаешь розовым светом… И пусть юноши будут юношами, пусть отдаются верованиям, пусть рвутся к мировым подвигам, к великому; пусть отдаются дружбе, любви, льют слезы грусти и восторга. Душа, раз отдавшись широкому разливу, не забудет его никогда…
Счастлив тот, кто сохранит юность души в старости, кто не даст душе окаменеть, ожесточиться. Да будет благословенна юность!

1
Из юношеских лет Александра Герцена и Николая Огарева г-н Постников, пассажир швейцарского поезда, помнил с некоторых пор только клятву на Воробьевых горах да еще детское имя Огарева — Ник.
Постников полистал герценовскую книгу «Былое и думы» и перечел описание эпизода с клятвой…
«Раз после обеда отец мой собрался ехать за город. Огарев был у нас, он пригласил и его с Зонненбергом (немец-гувернер Ника. — P. Ш.). Поездки эти были нешуточными делами. В четвероместной карете „работы Иохима“ (придворный поставщик. — Р. Ш.), что не мешало ей в пятнадцатилетнюю, хотя и покойную службу состареться до безобразия и быть по-прежнему тяжелее осадной мортиры, до заставы надобно было ехать час или больше (имеется в виду тогдашняя Лужнецкая застава на отрезке Камер-Коллежского вала за Новодевичьим монастырем. Впоследствии на этом отрезке вала прошла линия Московской Окружной железной дороги. — Р. Ш.). Четыре лошади разного роста и не одного цвета, обленившиеся в праздной жизни и наевшие себе животы, покрывались через четверть часа потом и мылом; это было запрещено кучеру Авдею, и ему оставалось ехать шагом. Окна были обыкновенно подняты (закрыты. — Р. Ш.), какой бы жар ни был; и ко всему этому рядом с равномерно-гнетущим надзором моего отца беспокойно суетливый, тормошащий надзор Карла Ивановича, — но мы охотно подвергались всему, чтоб быть вместе.
В Лужниках мы переехали на лодке Москву-реку… Отец мой, как всегда, шел угрюмо и сгорбившись; возле него мелкими шажками семенил Карл Иванович, занимая его сплетнями и болтовней. Мы ушли от них вперед и, далеко опередивши, взбежали на место закладки Витбергова храма на Воробьевых горах (примерно площадка перед зданием университета. — P. Ш.).
Запыхавшись и раскрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу.
Сцена эта может показаться очень натянутой, очень театральной, а между тем через двадцать шесть лет я тронут до слез, вспоминая ее, она была свято искренна, это доказала вся жизнь наша… Мы не знали всей силы того, с чем вступали в бой, но бой приняли… С этого дня Воробьевы горы сделались для нас местом богомолья, и мы в год раз или два ходили туда, и всегда одни».
А ведь мальчикам этим было всего-навсего… пятнадцать и тринадцать годков! Клятва их прозвучала примерно через год после казни пятерых декабристов на кронверке Петропавловской крепости в Петербурге. «Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души», — написал Герцен, и очень близкие слова есть в «Исповеди» Ника Огарева.
Еще два года спустя, 17-летним, в октябре 1829 года Герцен был зачислен в студенты Московского университета. Его друг Ник был на полтора года моложе. Он стал сопровождать студента Герцена на университетские занятия. Да и дома Ник, один или с учителями, усиленно занимался философскими, экономическими и юридическими науками, иностранными языками и литературным чтением. С января 1832-го Огарев тоже поступил в университет на правах вольнослушателя, избрав факультет нравственно-политический (так назывался тогда юридический факультет).
Московский университет был особым миром, непохожим на остальной мир фамусовской Москвы — чиновничий, барский, военный, обывательский, торговый, ремесленный, церковный… Университет чем-то напоминал давно ушедшую в прошлое, ставшую как бы древнерусской легендой вечевую новгородскую вольницу.
Сам воздух университетских аудиторий был особенный — в нем совсем не ощущалось затхлого душка чинопочитания, лести, фискальства, подобострастия, лицемерия. Так и задумывал его Ломоносов, но отнюдь не этого духа вольнолюбия желали сиятельные устроители и попечители с монархом во главе.
По их предначертаниям, университет должен был служить рассадником науки и просвещения, но, конечно, в строгих рамках официальной благонамеренной народности и православия. Предполагалось, что аудитории будет заполнять преимущественно дворянская молодежь и что она в дальнейшем возьмет в свои чистые руки, не знающие ни черного труда, ни взяток, ни затрещин, все дело народного образования и развития наук в России, без излишнего вольнодумства и крайностей. Однако университетская действительность оказалась иной, притом гораздо ближе к тому, о чем как раз и мечтал крестьянский сын Ломоносов.
Богатые и родовитые юноши не так-то охотно пошли в университеты! Их вовсе не привлекала, а скорее отпугивала та будущность, что ждала выпускников: нива науки, медицины и просвещения, ожидавшая посева разумного, доброго, вечного!
В самом деле, лишь незначительное меньшинство способных молодых дворян задумывалось о научных открытиях, лабораторных исследованиях и ученых изысканиях, хотя бы при университетских кафедрах. Большинству же абитуриентов открывались и еще более скромные должности — гимназических учителей, больничных докторов, на худой же конец — офицерские обязанности в армии, потому что университетский диплом давал право на младший офицерский чин, а годы студенчества засчитывались в стаж службы.
Все это, конечно, мало привлекало тех, кто желал попасть в дипломаты, сделаться гвардейским офицером, метил в придворные или мечтал стать на ступеньку той лестницы, что ведет к высшим государственным постам. Такую карьеру мог сулить, скажем, Царскосельский лицей, Пажеский корпус, частные привилегированные пансионы, эскадрон кавалерийских юнкеров при школе гвардейских прапорщиков.
И вот вопреки ожиданиям и планам правительства потекли в университеты, притом как раз охотнее всего в Московский, молодые разночинцы, сыновья обедневших, мелкопоместных дворян (женщины в российские университеты не допускались, исключение позднее было сделано лишь для одного Гельсингфорсского), и даже лица податных сословий, состоятельного мещанского, а как исключение даже и крестьянского происхождения: изредка попадали в университет одаренные дети крепостных крестьян, преимущественно из дворовых людей, чьим владельцам удавалось отдавать этих мальчиков в классические гимназии или в так называемые мещанские классы, существовавшие некоторое время при гимназиях. Если такой подневольный гимназист оканчивал курс с отличием, а его покровитель или владелец готов был оплатить университетское образование, этот юноша — выпускник гимназии мог стать и студентом. Разумеется, огромное большинство студентов, даже и беднейших, принадлежало к сословиям свободным, или, как тогда говорили, «неподатным».
Профессорская же среда в университете поначалу была преимущественно иностранной. Но и в эту среду стали быстро вступать талантливые люди «российского корня», такие, как археолог, впоследствии этнограф, Н. И. Надеждин, историки Т. Н. Грановский и М. П. Погодин (сын крепостного), физик М. Павлов, ботаник И. Двигубский, математики П. Щепкин и Д. Перевощиков. Университетские лекции помогли развитию Тургенева и Белинского, Ушинского и Пирогова. В Московском университете познавал науки и юный Лермонтов…
Университет был многолюден: восемь-девять сотен будущих врачей, учителей, ученых ежедневно наполняли его аудитории (в иных российских университетах число студентов иногда опускалось человек до ста). В жизни Москвы университет был самым важным центром общественной мысли. Да и во всей остальной обширной империи думающие люди с надеждой смотрели на московских выпускников, а развращенное лихоимством провинциальное чиновничество просто их побаивалось…