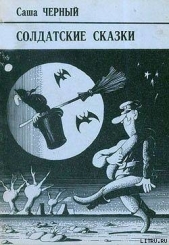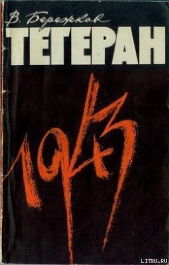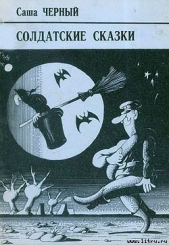Чёрный о красных: 44 года в Советском Союзе (ЛП)

Чёрный о красных: 44 года в Советском Союзе (ЛП) читать книгу онлайн
В эпоху индустриализации Советский Союз привлекал иностранных специалистов со всего мира. Одним из них стал молодой чернокожий американец Роберт Робинсон, приехавший летом 1930 г. с завода Форда на Сталинградский тракторный — работать и обучать советских рабочих. СССР тогда предлагал зарплаты вдвое больше, чем можно было рассчитывать получить в охваченных Великой депрессией США.
За свой добросовестный труд и инновационные достижения товарищ Робинсон — беспартийный чернокожий американский гражданин и глубоко верующий человек — в 1934 г. был избран в депутаты Моссовета, не зная, чем это для него обернется. Разделив судьбу миллионов рабочих СССР, Роберт Робинсон пережил сталинские чистки, Великую Отечественную войну, вездесущий надзор КГБ и в полной мере хлебнул прелестей советской действительности, в том числе «несуществующего» в Советском Союзе бытового расизма.
Вырваться из СССР Робинсону удалось лишь 44 года спустя — в 1974 г., в возрасте 67 лет.
Из него так и не смогли сделать коммуниста: мешала твердая вера в Бога, она же помогла ему остаться отстраненным, трезвым, пусть иногда и наивным, наблюдателем огромного отрезка нашей повседневной жизни — от Сталина до Брежнева и Горбачева.
Книга производства Кузницы книг InterWorld'a.
https://vk.com/bookforge — Следите за новинками!
https://www.facebook.com/pages/Кузница-книг-InterWorlda/816942508355261?ref=aymt_homepage_panel — группа Кузницы книг в Facebook.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Скоро нам предстояло убедиться, что не только мы с любопытством рассматриваем прохожих. За нами тоже наблюдали. Когда мы возвращались в гостиницу, к нам подбежали трое ребятишек: они что-то тараторили по-русски и таращили на меня глаза.
«Дядя, — воскликнула шестилетняя девочка, — как это вы так загорели?!» Новиков вначале перевел мне вопрос, а потом объяснил детям, что я принадлежу к черной расе. Разумеется, это объяснение не возымело никакого действия. Девочка в восторге подбежала ко мне, схватила мою руку и потерла ее своей ладошкой. Увидев, что ее рука не почернела, она удивилась.
«Вы такой черный оттого, что не моетесь?» — спросила она самым невинным тоном.
«Нет, — объяснил Новиков. Ему было неловко передо мной. — Это естественный цвет его кожи».
Я уверен, что дети так и не поняли, что хотел им сказать Новиков. Меня это нисколько не смутило, ведь они были такие простодушные. Они шли за нами до самой гостиницы, болтали, смеялись и разглядывали меня с восхищением и любопытством.
Глава 4
Вдоль по Волге
Из Москвы мы — группа американских специалистов — приехали в город Горький, откуда должны были отправиться на пароходе вниз по Волге в Сталинград. Горький — это уменьшенная, грубая копия Москвы с такими же кривыми, вымощенными булыжником улицами и невысокими деревянными домами. Почти на каждом углу возвышается церковь. По назначению церкви больше не используются: в них располагаются конторы, школы или музеи, а нередко они просто стоят заколоченными. Прохожие на улицах лицом и одеждой почти не отличаются от москвичей. Они деловито и быстро куда-то шагают, излучая оптимизм и веру в то, что обещания коммунизма вот-вот исполнятся. Особенно это касается молодежи.
Пароход, которому на семь дней предстояло стать нашим домом, был довольно большим, двухпалубным. Трюм предназначался для пассажиров третьего класса — в основном это были крестьяне. Они везли с собой перевязанные веревками деревянные чемоданы с самыми ценными для них пожитками и узлы с мисками, кувшинами, другой хозяйственной утварью и кое-какими припасами. Казалось, трюм ломится от людей, — все давно не мытые, в лаптях, а некоторые буквально в лохмотьях, — однако никто из них не жаловался.
Эта картина напомнила мне кишевший людьми вокзал в Ленинграде, где крестьяне, сидя или лежа на полу, терпеливо ожидали отъезда. Пассажиров трюма не кормили, даже чая им не давали. Но они как-то обходились: доставали из мешков скудные припасы — черный хлеб, вяленую рыбу, огурцы, и с удовольствием закусывали.
Интересно, знали ли они, каковы условия на верхней палубе. Кроме нас здесь разместили группу представителей интеллигенции и специалистов, в том числе — несколько учителей на каникулах. Каждому из пассажиров полагались отдельная каюта и трехразовое питание; мы могли проводить время в игровой комнате с бильярдом, шахматами и шашками. На верхней палубе всегда было просторно — главным образом потому, что сюда не допускали пассажиров третьего класса.
Пассажиры первого класса проводили большую часть времени на палубе: они либо сидели в шезлонгах, либо, облокотись о поручни, беседовали друг с другом. Я стоял один и смотрел на проплывавшие мимо берега, которые еще три месяца назад и не мечтал увидеть. Тогда Россия ничего для меня не значила. Корни мои были в Африке и на островах Карибского моря. Думая о далеких странах, я представлял себе Конго или Ямайку с их буйной растительностью и отлогими бежеватыми берегами, на которые ласково набегают теплые сине-зеленые волны.
Берега Волги высокие, вода — грязно-коричневая. Для русских Волга — все равно, что Миссисипи для американцев. Это не только важная транспортная артерия, протянувшаяся с севера на юг, но и источник жизненной силы страны, ее аорта. Кроме того, Волга — гигантское хранилище слез русского народа. Ни один русский не может представить себе родину без Волги.
Во время плавания я узнал, насколько русские любят солнце. Глядя на то, как они сидят с закрытыми глазами, подставив лица солнечным лучам, можно подумать, что перед вами — солнцепоклонники. По выражению лиц чувствовалось, что некоторые из них даже разговаривают с солнцем, просят его как можно дольше изливать на них свое тепло, воздают ему хвалу за наслаждение, которое оно им доставляет. Время от времени кто-нибудь испускал вздох благодарности. Когда пароход подходил к пристани, чтобы произвести разгрузку и погрузку, среди пассажиров всегда находились желающие сбросить с себя одежду, поплавать в реке и потом улечься на берегу, приглашая солнечные лучи проникнуть в самые поры их кожи. Это показалось мне любопытным — люди словно пытались запастись солнечной энергией. Но после того как я провел в России свою первую зиму, мне стала понятна и любовь русских к летнему солнцу, и их тоска по солнечному теплу.
Среди новых впечатлений, полученных на пароходе, были и гастрономические. За обедом мне впервые довелось отведать борщ и окрошку. Борщ, который подают горячим, мне понравился. В него кладут мелко нарезанные кусочки мяса, картофель, капусту, лук, добавляют немного сахара и, уже в тарелку, — ложку сметаны. Едят борщ с толстым куском черного хлеба; это очень вкусно. Окрошка, наоборот, вызвала у меня отвращение. Не понравилась она и большинству других американцев. Это густая, зеленоватого цвета смесь из сока особых листьев, помидоров, огурцов, уксуса и соли, в которой плавает половинка сваренного вкрутую яйца. Я съел одну ложку и больше за сорок четыре года в России никогда окрошку не заказывал.
Наступил второй вечер нашего плавания. Я стоял на палубе и старался разглядеть в темноте признаки жизни. Все, что мне было видно, — это окошки деревянных изб вдоль берега, освещенные тускло мерцающими керосиновыми лампами. Я пытался представить себе жизнь в этих избах, где нет ни водопровода, ни отопления. Когда я раздумывал над тем, можно ли быть счастливым в столь убогом жилище, из столовой донеслись звуки музыки. Мы знали, что вечером будут танцы и американцам представится возможность потанцевать с русскими девушками. Звуки музыки меня манили: я чувствовал себя одиноко, хотелось человеческого тепла.
Словно услышав мою молчаливую молитву, ко мне подошли двое русских: женщина с круглым добрым лицом и мужчина, который представился: «Толстой». Как я узнал позже, это в самом деле был близкий родственник известного русского писателя и гуманиста. Они пригласили меня пойти вместе с ними на танцы. Толстой (тоже оказавшийся писателем) ушел за своей племянницей. Мне было ужасно неловко. Эти добрые люди искренне хотели, чтобы я разделил с ними удовольствие. Но я никогда в жизни не был на танцах среди одних только белых и ни разу не танцевал с белой женщиной.
Через несколько минут Толстой вернулся со своей племянницей Верой. Он спросил ее: «Почему бы тебе не пригласить мистера Робинсона на танец?» Я разрывался между страхом и желанием танцевать, не знал, как быть. Вера разрешила мои сомнения. Без тени робости она взяла меня под руку и объяснила, что это русский обычай. Так мы и вошли в столовую.
Мы начали танцевать под мелодию «I Can’t Give You Anything But Love, Baby». Я чувствовал Верину поддержку — она сохраняла самообладание, уверенность в себе, которых мне явно не хватало. Расистское общество вбило в меня страх перед белыми и научило всегда быть начеку, помнить, что при малейшей возможности они уничтожат чернокожего, вроде меня.
Я догадывался, что думают белые американцы, глядя на то, как мы с Верой кружимся по танцплощадке. Скоро они принялись открыто издеваться надо мной. Разумеется, Вера видела, что происходит, но продолжала танцевать. Одна ее рука лежала на моем плече, другой она еще крепче сжимала мою руку. Когда оркестр заиграл новую мелодию, американцы усадили своих русских партнерш. Так они выражали протест против присутствия чернокожего на одной с ними танцплощадке. Джим Кроу [1] плыл на корабле по Волге! Кроме нас продолжали танцевать лишь две пары. Я пытался угадать, что думает Вера о бойкоте. Она все понимала и чувствовала мое смятение.