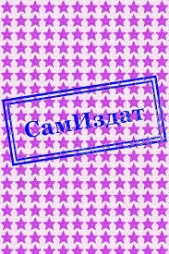Начало века. Книга 2

Начало века. Книга 2 читать книгу онлайн
«Начало века» — вторая книга мемуарной трилогии Андрея Белого. Воспоминания охватывают период с 1901 по 1905 г. В них нарисованы портреты видных литераторов и художников, рассказано о зарождении символизма, воссоздана общественная и литературная атмосфера России начала века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Беру Тютчева, открываю, читаю:
Тютчев мне распахнулся в двух строчках, как облако молнией.
Встреча с Боратынским: квартирочка Брюсова; белые — стены; и — черное пятно: сюртук Брюсова; он, подрожав ресницами:
— «Я вам прочту!»
Ощупью выщипнул из полки старое издание стихов Боратынского.
Боратынский — открытая книга!
Весна 1902 года посвящена Лермонтову; место: балкончик, повисший над Арбатом, с угла Денежного; красный закат над розовым домом Старицкого, — что напротив; облачка над ним; под ногами пустеющий тротуар, конка (трамвай не бегал).
И тексты, открыв интонации, выплеснулись: прояснять Врубеля, «золотистую лазурь» поэзии Соловьева; Розанов подсказал: звук поэзии — звук песен Истар 57.
Звонок: единственный посетитель квартирки, пахнущей нафталином, — А. С. Петровский: маленький, розоволицый студентик, в картузике, стоптанном, точно башмак, просовываясь за спиной на балкон и пенснэ защипнув на носу, прелукаво посмеивается; видя меня в увлечении Фетом и В. Соловьевым, подкинул Лермонтова и Розанова.
Мы — на балкончике; цепь фонарей зажигается; беседа тех дней: мифы древних; будущее вылетело из них; где вавилонские мифы? Вот в этих чехлах; армянин, пришей ему завитую бороду, — ассириец. Наш поп — породистый Сарданапал; мне Петровский указывает:
— «Вот тема Розанова!»
Розанов — крючник, обхаживающий задворки и вонь-кие дворики, — чтоб из мусорных ям вытащить… идольчики: бог Молох не в музее, а… в нужнике, в руководстве по половой гигиене; Египты, Ассирии, Персии, сбросив декоративные ризы, пылают мещанским здоровьем, которое Розанов рекомендует как противоядие. С интересом читал статью Розанова «О египетской красоте», напечатанную в «Мире искусства»; Розанов связывает сюжет Достоевского с солнечным мифом Озириса: 58 не ищите Египта в Египте, — в реальном романе; не ищите в музеях богини Истар, а в лермонтовской любовной строчке.
Я и Петровский — противники Розанова; Петровский подчеркивает: ненавидеть — не значит отделаться; так поступал Владимир Соловьев, неудачный высмеиватель Розанова 59, сам «халдей», по Петровскому.
Противников знать полагается: Соловьев же — бьет мимо.
Отсюда и Розанов, мне им подброшенный: я его изучаю. Лермонтова противополагает Пушкину Розанов, видя и в нем переряженного в байронизм халдея; 60 Ассирия Розанову нужна, чтоб поднести современности… культ фаллуса [Фаллус — мужской детородный орган]. Но тот же Лермонтов руководит поэзией Вл. Соловьева; Розанова ненавидевший философ Соловьев, «халдей», внес в христианство парфюмерию розовых масл и амбр Востока (статью Леонтьева «О розовом христианстве» подбросил Петровский мне 61).
Заря зарею, а нездоровая чувственность 62 — чувственностью.
Петровский — в те дни дальновиднее всех; он предвычислил диалектику перерождения «храма» в… публичный дом: в душах скольких!
Меня, влюбленного в «даму», гнозис Петровского задевает; я досадую; так Розанов, Вл. Соловьев, Мережковский становятся в нас предметами, которые мы ощупываем, как в полутьме; но без ощупи которых нам обойтись трудно.
Лермонтов — арена борьбы: в него вцепилась романтика Вл. Соловьева; 63 в него, как клещ, впился Розанов: Лермонтов в двойном понимании сам двойной, — образ ножниц, разрезающих души.
Разговоры о ножницах сознания (в связи с Лермонтовым, Мережковским, Розановым, Ницше, Вл. Соловьевым) — беседы мои с Петровским в мае 1902 года, как не похожи они на разговоры с ним в 1899 году (материализм, химия, студенческий журнал, профессор Зограф)! За два года нас выхлестнуло из быта науки.
Вдруг кто-нибудь из нас предлагает:
— «Идем к Владимировым!»
И мы пересекаем пахнущие сиренями переулки: Денежный, Глазовский; вот — угловой дом с колоннами, принадлежащий Морозову; 64 рядом — глядящие на Смоленский бульвар ворота дома, куда проходим; в глубине двора, из первого этажа яркий свет, откуда — пение, всплески рояля, взгрох хохота: бородатого Малафеева и Владимирова; там — мое общество: математик Янчин, милые сестры, умная гостеприимная мать (тоже «молодежь»), два Челищева: носатый, черный, басище, от которого разрываются стены; и Александр Сергеевич, математик, композитор, болтун, шармер, шалун, умник. 65
Челищев — некогда ученик отца; мне расточает он комплименты, восхищается лекциями отца.
В веселой квартире предмет острых разговоров с Петровским превращается в легкие щелки слов: шутка Челищева, гогот Владимирова, колокольчики голосочка его сестры; звук романса: «Как сладко с тобою мне быть» 66.
Весной 1902 года каждый вечер бежал к Владимировым; заходы длились года; в 1902 к В. В. — тянуло особенно: наш выход в свет — совпал в днях; в начале апреля вышла моя «Симфония», в начале апреля открылась выставка «Московских художников», организованная Мешковым, учителем Владимирова; на выставке оказались две картины его 67; в первый же день они были проданы; успех его молодил; оба полные сил, мы с В. В. были гармоничною парой; В. В. — уютный, добрый, сложный в переживаниях, простой в жизни; посиды с ним — отдых: не разговор, — переброс шуток; не сидение, — привал на диване, на подоконнике; думалось вслух; он, перепачканный красками, внимая мне, пересыпал слова шаржем каламбура, после которого мы, схватясь за бока, заливались хохотом; и тут же кисть его бросала в альбом свои пятна; я с удивлением разглядывал, как броски слагали сюжетные авантюры; зовут к чаю; разговор — не окончен, а эскиз вылез из пятен: леший, боярин или Заратустра (талантливая импровизация к Ницше), просто закатная лужа, играющая отсверками; альбом этюдов вызвал восторг. Кончит, моет руки, перепачканные краскою, поворачивая румяное, бородатое, доброе лицо.
Квартира Владимировых соединяла молодежь; мои воскресенья временно стали центром идейной платформы «аргонавтов»; они возникли немного позднее: беседы там превращались в рефераты с прениями.
Мои воскресенья — вечера встреч, тактических соглашений, споров; собрания у Владимировых — питающий жизненный сок: чай с музыкой, без «старших».
Умный уют, строгое благодушие вносил В. В.; к нему шли и те, кто нас ругали; кружок «аргонавтов» позднее притягивал самым подбором людей, вопреки их литературному весу притягивал и далеких, критиковавших нас; профессор Шамбинаго, композитор Василенко, пианист Буюкли, кантианец Б. А. Фохт являлись к Владимировым 68.