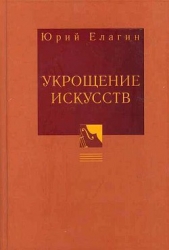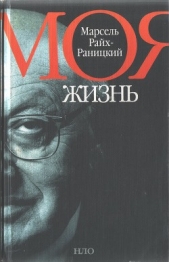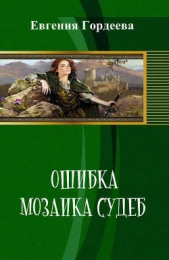Мозаика еврейских судеб. XX век
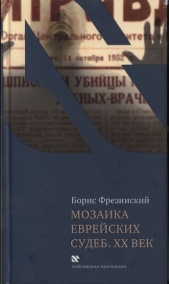
Мозаика еврейских судеб. XX век читать книгу онлайн
Книга историка литературы Бориса Фрезинского содержит 31 сюжет. Их герои — люди как общеизвестные (Соломон Михоэлс, Натан Альтман, Илья Ильф или Василий Гроссман), так и куда менее знаменитые. Все они жили в XX веке — веке мировых катастроф — и работали преимущественно на территории Российской империи или СССР. Книга не случайно начинается с повествования об убийстве Соломона Михоэлса — знакового для советской эпохи преступления, обнажившего начало нового политического курса Сталина…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наивным восторгам Альтмана пришел конец 28 января 1936 года вместе со статьей «Правды» «Сумбур вместо музыки», в которой громили Шостаковича. А в феврале-марте сорвавшиеся с цепи псы рвали на части архитекторов Мельникова и Леонидова, художников Лебедева, Тышлера, Штеренберга, режиссеров Мейерхольда и Таирова, поэтов Пастернака и Заболоцкого, кинорежиссеров Эйзенштейна и Довженко. Это называлось кампанией по борьбе с формализмом.
Альтман прозревает быстро. Он перестает писать в Америку; ему уже ничего не предлагают, о квартире в Москве нет и речи. Весной 1936 года он оказывается в Ленинграде и вместе со своей новой женой поселяется на углу Лесного и Кантемировской. Здесь Альтман прожил 35 лет. Он еще успел оборудовать мастерскую, а издательство «Academia», перед тем как исчезнуть навсегда, отпечатало большеформатный тираж «Петербургских повестей» Гоголя с замечательными и конечно же чудовищно «формалистическими» иллюстрациями Альтмана, выполненными еще в Париже (здесь снова возникает тень Шагала, незадолго перед тем сделавшего серию рисунков к «Мертвым душам»).
Живописи больше не было. К мольберту Альтман приколол листок, на котором его красивым готическим почерком были написаны строки Микеланджело Буонарроти:
М. Эткинд в монографии «Натан Альтман», с трудом пробившейся к читателю в 1971 году, глухо назвал все это «кризисом художника».
Когда началась война и в Ленинграде уже сказывался голод, Альтман как-то пришел в Союз художников, где подкармливали мастеров кисти и резца. «А у вас какое звание?» — полюбопытствовал вахтер. «У меня нет звания, — совершенно спокойно ответил Альтман. — У меня есть имя».
Вот запись Г. М. Козинцева военной поры: «Альтман о званиях и премиях: я просто хотел быть хорошим художником, но теперь это „вопрос меню“». И еще одна запись: «Как в Новосибирске Натан красил таракана серебряной краской — это будет у меня лауреат».
Альтман не обладал волей Фалька, исступленно работавшего в кромешной нищете, но, в отличие от многих мастеров, он не позволил себе писать плохо — он не писал вообще.
Он был неизменно подтянут и элегантен, знал себе цену и дружил лишь с теми, кто понимал, что такое мастерство и подлинный вкус. В Москве это были Эренбурги, в Ленинграде — прежде всего Г. М. Козинцев.
В 1920 году шестнадцатилетний Козинцев учился у Альтмана в Свободных художественных мастерских; теперь разница в возрасте была не столь заметна. Альтман работал с Козинцевым над всеми его театральными шекспировскими постановками. «Король Лир» в БДТ (премьера состоялась перед самой войной, спектакль шел недолго — при бомбежке сгорели декорации); «Отелло» в Александринском театре (премьера в Новосибирске в 1944 году) и, наконец, знаменитый «Гамлет» в Александринском театре — эта премьера 1954 года ознаменовала начало театральной «оттепели», и работа Альтмана была вдохновенной.
К 80-летию Альтмана в Москве вспомнили о художнике, некогда рисовавшем в Кремле Ленина, и, несмотря на совершенно недостаточную общественную работу и сугубо неарийское имя, все-таки присвоили ему звание заслуженного художника РСФСР (ушлые бездари этих лавров благополучно достигали к пятидесяти). Когда курьер принес Альтману правительственную телеграмму с пустыми словами поздравления, он ничего не сказал, только смял несчастный листок в кулаке и бросил на пол… Впрочем, другой подарок Альтман принял охотно: ему позволили ретроспективную выставку. Она и посейчас памятна многим. Альтман ежедневно приходил на улицу Герцена помолодевший и стройный, и видеть его самого на фоне его волшебных холстов было незабываемой радостью.

Натан Альтман.
Париж, 1928 г.
Фото И. Эренбурга

Н. И. Альтман с Л. М. Козинцевой-Эренбург и обезьяной Федькой.
Париж, 1928 г.
Фото И. Эренбурга
Серж Фотинский — парижский художник
О существовании французского художника, выходца из России Сержа Фотинского послевоенные русские читатели узнали из мемуаров Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» еще в 1960 году — сначала он был упомянут в длинном и пестром списке посетителей легендарного парижского (точнее даже — монпарнасского) кафе «Ротонда», а затем последовал краткий, но, как всегда у Эренбурга, выразительный портрет: «Художник Серж, или Сергей Фотинский, приехал в Париж задолго до меня. Как все, он голодал, как все, писал пейзажи и свято верил в искусство. Он женился на француженке, но всегда говорил „у нас в России“; получил советский паспорт. Это человек очень добрый и восторженный…» Я обрываю это краткое повествование и обращаю внимание читателей на слова о приезде Фотинского в Париж: «задолго до меня». Эренбург, как известно, приехал в Париж в декабре 1908 года. Когда же приехал Фотинский?
Единственная изданная в России книга (помимо «Люди, годы, жизнь»), где я встретил упоминания о Фотинском, — больших размеров монография-альбом В. М. Полевого «Двадцать лет французской графики». В аннотированном указателе сообщается, что Фотинский приехал во Францию в 1908 году, а в тексте книги (с. 89) — что это произошло в 1907-м. Сомнительно и то и другое. Ясность в этом вопросе, равно как и уникальная информация о том, как Фотинский попал во Францию, пришла нежданно-негаданно.
Как-то я рассказывал о своих эренбурговских штудиях московскому поэту Дмитрию Антоновичу Сухареву; зашла речь и об эренбурговских мемуарах, первое бесцензурное, комментированное издание которых я тогда уже начал готовить. И тут Д. А. говорит: «А вы знаете, я — родственник одного из друзей Ильи Григорьевича». — «Кого?» — немедленно спросил я. И в ответ прозвучало: «Фотинского».
Сухарев — литературный псевдоним поэта; как ученый-биолог, специалист по мозгу, он известен под своей подлинной фамилией: Сахаров. В семье Д. А. Сухарева память о дальнем родственнике, давно уехавшем во Францию, хранили, и связей с ним не порывали — мать Д. А., Ирина Владимировна, встречалась с художником в 1935 году, когда он на время оказался в Москве; Д. А. виделся с ним в Париже уже в 1970-м. Вот откуда я узнал то, что не было известно никому во Франции: что Серж Фотинский — это Абрам Саулович Айзеншер. Он родился в 1887 году в Одессе. Смолоду (еще до революции 1905 года, всколыхнувшей всю Россию) был участником всяких революционных дел, грозили ему серьезные неприятности, и в 1903 году молодому Айзеншеру удалось раздобыть российский паспорт на имя Сергея Фотинского, и с ним он бежал во Францию. Так в Париже 1903 года шестнадцатилетний Абрам Айзеншер стал Сержем Фотинским и уже никогда не возвращался к своему подлинному имени [4]. Понятно, что значит в юном возрасте период в пять лет, — для Эренбурга, встретившего Фотинского в 1912 году, тот был уже парижанин с почти десятилетним стажем…
Пылкость Фотинского особенно запомнилась Илье Эренбургу в марте 1917 года: «Это было утром. Я сидел, как всегда, в пустой „Ротонде“ и бился над переводом сонета Дю Белле… Меня схватил за руку чрезвычайно возбужденный Фотинский — я не заметил, как он вошел в кафе…
— Как, ты не знаешь? — кричал Фотинский. — Царя нет!
Я ничего не понял, но обрадовался и обнял Фотинского. На первой странице газеты было напечатано: „Государственный переворот в Петрограде. Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила“. „Ну и что? — сказал я Фотинскому. — Чем Михаил лучше Николая?“ Но Фотинского разочаровать трудно: он побежал за другой газетой, и мы нашли маленькую телеграмму: „В Петрограде забастовки, демонстрации“. „Это настоящая революция!“ — кричал Фотинский; я его снова обнял».