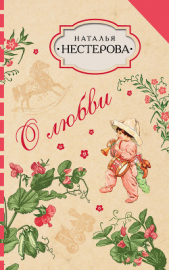О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания
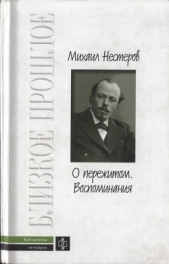
О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания читать книгу онлайн
Мемуары одного из крупнейших русских живописцев конца XIX — первой половины XX века М. В. Нестерова живо и остро повествуют о событиях художественной, культурной и общественно-политической жизни России на переломе веков, рассказывают о предках и родственниках художника. В книгу впервые включены воспоминания о росписи и освящении Владимирского собора в Киеве и храма Покрова Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. Исторически интересны впечатления автора от встреч с императором Николаем Александровичем и его окружением, от общения с великой княгиней Елизаветой Федоровной в период создания ею обители. В книге помещены ранее не публиковавшиеся материалы и иллюстрации из семейных архивов Н. М. Нестеровой — дочери художника и М. И. и Т. И. Титовых — его внучек.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Хорош Божий мир! Хороша моя родина! И как мне было не полюбить ее так, и жалко, что не удалось ей отдать больше внимания, сил, изобразить все красоты ее, тем самым помочь полюбить и другим мою родину.
А тут, глядишь, и осень подоспела. Погода изменилась. На двор и в сад пускают редко. Еще вначале есть кое-какие радости, развлечения… Есть надежда, что скоро приедет отец с Нижегородской ярмарки, куда ежегодно он ездил за покупками товара на весь год, проезжая оттуда в Москву и Петербург.
Вот отец приехал, но опять не привез мне «живого жеребеночка», который обещался мне каждый год, и всегда перед самой Уфой жеребеночек где-нибудь, у Благовещенского завода, спрыгивал с борта парохода и тонул, к моему горю. Приезжал отец, все слушают рассказы о Нижнем, о Москве, но все это было больше для взрослых. Я же жил надеждой скорой получки товара — игрушек. И вот, бывало, за обедом отец сообщал матери, что буксирный пароход, какой-нибудь «Отважный» или «Латник», пришел и что товар получен; получены и игрушки. И через несколько дней в отворенные ворота въезжали подводы, а на них ящики с товаром. Все складывали на галерее. У большого амбара, где обычно товар откупоривали, сверяли полученное по книгам-счетам и тогда уже по частям отправляли в магазин. Обычно при разборке была вся семья. Каждого что-нибудь интересовало новенькое, а нас с сестрой, конечно, игрушки. Однако игрушки строго запрещалось брать или трогать руками; позволялось только смотреть на них, и вообще наше появление было маложелательным, — нас только терпели, как неизбежное зло. Ящики вскрывали кучер Алексей с приказчиками. Алексей был красивый татарин, живший у нас много лет. Его знал весь город. Все знали «Нестеровского Алексея», «Нестеровскую Бурку», «Нестеровскую Пестряньку», позднее «Нестеровскую Серафиму» [34].
Помню, от ящиков с игрушками как-то особенно раздражающе приятно пахло свежим деревом, соломой, лаком. Какие чудеса открывались, бывало, перед нами! Игрушки, от самых дешевых до самых дорогих заграничных, «с заводом», вынимались и скользили перед очарованным взором нашим. Вот кустарные кормилки, монахи, лошадки. Потом папье-маше — уточки, гусары, опять лошадки… Удивлению, восторгам не было конца. Каждый год Москва, в лице г.г. Дойниковых, Шварцкопфов и других изобретательных умов, наполняла игрушечный рынок своими диковинками, небывалыми новинками. Из виданного мы ничего не получали в собственность, и лишь позднее, уже в магазине, позволялось нам поиграть чем-нибудь. Заводилась обезьянка, и она каталась по полу, кивала головкой, била в барабан и вновь отправлялась в шкаф, пока не покупали ее какому-нибудь счастливому имениннику.
Вот и еще осеннее удовольствие: это «рубка капусты». Капусту рубили позднее: у каретников, на длинном коридоре появлялись большие корыта, и несколько женщин под начальством кухарки Фоминичны начинали традиционную рубку капусты, заготовку ее на зиму. Стук тяпок раздавался целый день по двору, и тут, как и летом при варке варенья, было необыкновенно приятно получить сладкий кочанок. В этом кочанке была какая-то особая осенняя прелесть. Однако это не было так просто, так как строго запрещалось баловать нас. После рубки капусты мы терпеливо ожидали в горницах, и все реже и реже на дворе, первого снега, первых морозов… В конце октября, а чаще в ноябре, выпадал снег, и скоро устанавливался санный путь. Еще задолго кучер Алексей начинал возиться в каретнике, передвигая экипажи: коляска, тарантас, плетенка задвигались в дальние углы, а на первом плане появлялись так называемые «желтые сани», «маленькие санки», «большие дышловые» с крытым верхом и медвежьей полостью. Делалась для нас, детей, гора, появлялись салазки. И я, в длинной шубке с барашковым воротником, в цветном поясе, в валенках и серой каракулевой шапке и варежках, катался с горы или делал снежных баб. Морозы не пугали, хотя в те времена они были в Уфе лютые.
В праздники мать приказывала запрячь лошадей и, забрав нас, выезжала прокатиться по Казанской. Помню ее в атласном салопе с собольим воротником с хвостами и в «индейской» дорогой шали. Зимние катанья и гулянья особенно многолюдны бывали на Масленой неделе и в Крещенье. В Крещенье был обычный крестный ход на водосвятие из старого Троицкого собора («от Троицы») на Белую, а после обеда, часа в три-четыре, вся Уфа выезжала на Казанскую, самую большую улицу города, идущую от центра до реки Белой. Улица эта — широкая, удобная для катанья в два-три ряда. Каких саней, упряжек, рысаков и иноходцев не увидишь, бывало, в эти дни на Казанской! На последних днях Масленицы, после блинов и тяжкого сна после них, выезжало купечество, выезжали те, что сиднем сидят у себя дома круглый год. Медленно выступают широкогрудые, крупные, с длинными хвостами и гривами вороные кони пристяжкой. Сани большие, ковровые, казанские, а в санях сидят супруги Кобяковы — староверы из пригородной Нижегородки; они там первые богачи. Там у них мыловаренный завод, дом огромный, в два этажа, а при нем «моленна». Редко — раз или два в году — покидают супруги Кобяковы свое насиженное гнездо: в Крещенье, да на последний день Масленой. Вот они сейчас степенно, как священнодействуют, — катаются по Казанской, кругом Площади. На широких санях им тесновато; для пущего удобства супруги сидят друг к другу спинами — уж очень они дородны, а тут и одежда зимняя. Сам — в лисьей шубе, в бобрах камчатских; сама — в богатейшем салопе с чернобурым большим воротником. Супруги как сели у себя дома орлом двуглавым, так и просидят, бывало, молча часа три-четыре, покуда не повезут их с одеревенелыми ногами домой, в Нижегородку. Там кони у подъезда встанут, как вкопанные, и супруги не торопясь вылезут из саней, разомнут свои ноженьки, поплывут в горницы, а там уж и самовар на столе. Вот тут они поговорят, посудят, никого не забудут.
Вот Вера Трифоновна Попова с детками выехала в четырехместных санях, обитых малиновым бархатом, на своих гнедых, старых конях «в дышло» [35]. Она не менее дородна, чем Кобячиха. Она — «головиха», супруг ее, Павел Васильевич, второе трехлетие сидит головой в Уфе, и кто не знает, что настоящая-то голова — у головихи, Веры Трифоновны. Павел Васильевич тихий, смиренный, а она — она боевая… Вот и теперь, на катанье, отвечает она на поклоны не спеша. Сама редко кому первой поклонится. Катается Вера Трифоновна недолго, чтобы только знали люди, что она из города не выезжала ни в Екатеринбург, ни в Кунгур, где у ней богачи-родственники.
А вот сломя голову летит посереди улицы, обгоняя всех, осыпая снежной пылью, на своих бешеных иноходцах, «наш Лентовский» — Александр Кондратьевич Блохин [36]. Он всю Масленицу путался с актерами. Все эти Горевы и Моревы — закадычные ему друзья; пьют, едят, а Александр Кондратьевич платит. Самодур он, а душа добрая, отходчивая. Богатырь-купец жжет себя с обоих концов. За Александром Кондратьевичем мчится, сам правит, великан-красавец — удалой купец Набатов. К нему прижалась молоденькая супруга: едва-едва сидят они вдвоем на беговых санках. И страшно-то ей, и радостно с милым лететь стрелой…
Вся эта ватага несется вниз по Казанской до Троицы, чтобы обратно ехать шагом. Так принято, да и коням надо дать передохнуть. А там снова — кто кого, пока сумерки не падут на землю.
Погода в феврале бывала хорошая, ровная, иногда шел снежок, а морозов мы не боялись…
В феврале бывала в Уфе ярмарка. После Всероссийской Нижегородской шли местные: Ирбитская, Мензелинская, наша Уфимская. К известному времени приводились в порядок так называемые «ярмарочные ряды» — деревянные лавки, заколоченные в продолжение десяти месяцев в году. Они оживали на полтора — два месяца. Почти все купцы, в том числе и мой отец, на эти два месяца перебирались на ярмарку. Так повелось уже издавна. Мы, дети, этого времени ждали с особым нетерпением, и оно всякий год казалось нам чем-нибудь новым.