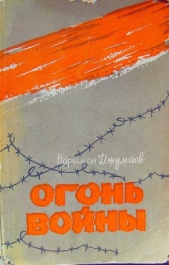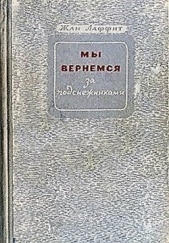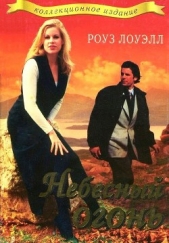Огонь над песками. Повесть о Павле Полторацком
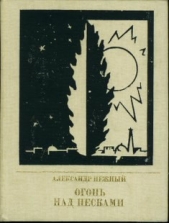
Огонь над песками. Повесть о Павле Полторацком читать книгу онлайн
Александр Нежный — прозаик и публицист. Он окончил факультет журналистики МГУ, работал в газетах «Московская правда» и «Труд». Печатался в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Наш современник», «Звезда». Ему принадлежат три книги очерков и публицистики — «Дни счастливых открытий», «Берег раннего солнца», «Решающий довод».
«Огонь над песками» — первая историческая повесть писателя, она посвящена Павлу Полторацкому, народному комиссару труда Туркестанской АССР. Действие происходит в Туркестане, в июле 1918 года, когда молодая Советская власть напрягала все силы, чтобы одолеть разруху, голод и ожесточенное сопротивление тайных и явных врагов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ты чему радуешься? — спрашивал Агапов, снимая очки и вытирая платком воспалепные глаза.
— Да вот… киргизу хотел помочь, а он взял и ушел. С ним еще девочка, дочь его была, он продать ее хотел…
— Там купят, — мрачно кивнул Агапов в сторону Старого города. — А ты, верно, себе места найти не можешь? Жалеешь несчастную? А чего, собственно, жалеть? Старый обычай — подросла, значит, пора продавать.
Все это он говорил раздраженно, запальчиво и, может быть, с некоторой издевкой в голосе, словно Полторацкий, рассудив лишь немного, мог бы заранее понять, что его попытка окажется тщетной и что все случившееся выдаст в нем не только предосудительное мягкосердечие, но и полное незнание мусульманских нравов и обычаев. Выражение лица, однако, было при этом у Агапова такое, что и раздражение, и запальчивость, и даже издевку следовало в равной мере отнести и к нему самому. Судя по глубокой морщине, разделившей брови, по скорбной складке губ, он, так же, как и Полторацкий, более всего был угнетен самой возможностью положения, при котором, чтобы избегнуть голодной смерти, бедняку-мусульманину приходится торговать плотью от плоти своей, ребенком, неважно, что девочкой.
Полторацкий засмеялся.
— Ты, Агапов, торопишься всегда… Я девочку у него купил.
— Ты?! Ну, я тебя поздравляю… Акт милосердия, надо понимать? И что ж ты теперь с ней делать будешь?
— Жить ей помогу, — Агапову прямо в лицо взглянул Полторацкий.
— Гуманно… — пробормотал тот, но затем, как бы спохватившись, добавил: — Ты на меня внимания не обращай, я малость не в себе…
— Как! — изумился Полторацкий. — С утра? Да ты что?
— А вот так! — громко сказал Агапов. Окинув его взглядом, насмешливо улыбнулся прошедший мимо гражданин в ослепительно-белом костюме. — Огонь раньше горел… — стукнул он себя маленьким бледным кулаком в лацкан потертого пиджака, и на глазах у него блеснули слезы. Или, быть может, солнце поиграло с темными стеклами его очков. — Теперь погас. Я себя спрашиваю все время: что я могу сделать для рабочих? Что?! Ты знаешь, ты должен знать, я все силы прилагал… Я в Совнарком приходил в семь утра и дома раньше часа почи не бывал… Да какой дом? Всю жизнь не было дома… всю жизнь полуголодный, спал, где придется… В железнодорожных трубах спал! Да… о чем я? Погоди, — сказал он, заметив нетерпеливое движение Полторацкого, — ты меня послушай, меня надо послушать. И вот я себя спрашивал: что… ну что могу я сделать для рабочих? Силы мои ограничены моей человеческой сущностью… Помнишь, был вопрос об отправке на дутовский фронт… я говорил, ты номнишь? Я говорил: слабые должны работать, умелые — управлять, а энергичные — воевать! То есть не всех подряд, не под одну гребенку, чтоб было, кому работать, чтоб, несмотря ни на что, улучшать материальное положение… Ведь это же главное! Где холод и голод — там непременно слабость власти, непременно бутада! — ввернул Агапов новомодное словечко, которым с некоторых пор обозначали всяческие брожения, непорядки и вспышки недовольства. — А слабая власть должна спасаться насилием, ты это не хуже меня знаешь.
— Это ты брось! — остановил его Полторацкий. — С такими разговорами — да ты хоть понимаешь, кто ты сейчас?! Наша власть — власть молодая, ее со света стараются сжить, а ты про какое-то насилие плетешь! Насилие насилию рознь… и грош нам цена будет, если мы Советскую власть защитить не сумеем. Понял?
— Все напрасно, — вяло отмахнулся Агапов. — Знаешь, на кого я похож? Я похож на приговоренного к повешению, который ждет и хочет, чтобы его повесили. Ну, прощай, — сказал он и странно-холодной рукой пожал Полторацкому руку. — Я тут неподалеку… в переулок Двенадцати тополей…
Горький осадок остался в душе от хмельных, сумбурных слов Агапова. Еще и тревога по капле падала в душу и связана была с переулком Двенадцати тополей, откуда третий раз за сегодняшнее утро вышел Полторацкий и куда направился Агапов. Казалось бы, ничего особенного в этом обыденно-простом совпадении нет. Не исключено, между прочим, что Агапов — через Дорожкина — знаком с Савваитовым и шел именно к нему. Не упомянул же о том лишь потому, что вернулся в Ташкент недавно и еще не знает, что Полторацкий из гостиницы перебрался и переулок Двенадцати тополей. Все так, но с неспокойной душой поднялся он на второй этаж Совнаркома, отпер дверь своего кабинета и, оставив ее открытой, чтобы хоть чуть-чуть повеяло прохладой из сумрачного коридора, сел за стол.
Тут же после короткою мягкого, но в то же время довольно уверенною стука отворилась другая дверь, через которую к наркому труда входили сотрудники, и с вкрадчивой улыбкой на длиниом лице неслышными шагами приблизился и протянул руку с любовно выращенным, холеным перламутровым ногтем на мизинце Даниахий-Фолиант, секретарь комиссариата и член коллегии по социальным вопросам.
— Не ночь, Павел Герасимович, — поздоровавшись, произнес он, — а сущее мучение. Гроза в июле, да еще без дождя! Неслыханно! Я глаз не сомкнул ни на минуту и чувствую себя ужасно…
— Ну, так и отдохнули бы, — не очень любезно ответил Полторацкий Даниахию, на что тот, словно заранее подготовившись к подобному повороту, воскликнул решительно и протестующе:
— Как можно, Павел Герасимович! Столько дел, такая обстановка…
— Что значит — такая обстановка? — опустив голову, чтобы не встречаться взглядом с очень живыми, быстрыми и весьма неглупыми глазами Даниахия, сказал Полторацкий. — Обстановка нормальная.
Обеими руками сразу замахал на него Даниахий-Фолиант.
— Павел Герасимович! — сказал с обидой. — И вы могли допустить, что я сомневаюсь! Что я не всецело предан и позволяю себе колебания? Да разве вся моя деятельность в комиссариате труда под вашим, Павел Герасимович, руководством…
Полторацкий его перебил:
— Давайте не тратить зря время, товарищ Даниахий.
— Давайте, — немедленно согласился Даниахий-Фолиант. — Я займу у вас всего пять минут.
— Опять проект какой-нибудь?
— Мне кажется, товарищ народный комиссар, пы недооцениваете значения устремленной вперед мысли, — с видом уязвленной гордости промолвил Даниахий.
— Я вас слушаю, — сказал Полторацкий.
Даниахий начал так:
— Под гнетом жизненных невзгод и массах возникает враждебное чувство к власти, которую они, то есть массы, склонны обвинять в тяготах своего существования.
— Прямо-таки все массы без исключения? — сказал Полторацкий с насмешкой. — Откуда вы это взяли?
На секунду растерявшись, Даниахий быстро ответил:
— Для ясности постановки задачи, товарищ Полторацкий.
— Ну, если только для ясности…
— Дабы избежать этого умонастроения и, кроме того, приступить к решению кардинальных социальных задач, власть уже сейчас может использовать имеющиеся в ее распоряжении средства. Главнейший вопрос, вы знаете, — Урегулирование оплаты труда.
Полторацкий стал слушать внимательней. Из маленького рта Даниахия слова вылетали быстро, причем скорость речи не причиняла ущерба ее четкости, затем, ловко сцепившись друг с другом, слова становились округлыми фразами, в которых, если вдуматься, не все, далеко не все было пустота, треск и самолюбование. Почему, говорил Даниахий, с некоторой театральностью то повышая, то понижая голос, не выдерживает ни малейшей критики современная система оплаты труда, унаследованная от трижды проклятого и наконец сметенного строя? Почему молодое вино новых социальных отношений, сказал Даниахий-Фолиант, надменно вскинув голову с высоким, зауженным вверху лбом, мы старательно наливаем в старые мехи отвергнутого капиталистического общества? Что мы видим вокруг, спрашивал он далее и плавным жестом руки с длинным перламутровым погтем на мизинце обводил кабинет наркома труда с картой Средне-Азиатской железной дороги на одной стене, портретом Карла Маркса на другой, сейфом в углу, чайником и двумя пиалами на столе. Мы видим, сам себе отвечал Даниахий, непрерывное падение курса рубля, хозяйственную разруху… мы видим рост цен на продукты и товары, ввиду чего под давлением суровой необходимости, а также бедствующих рабочих масс каждые три-четыре месяца пересматриваются ставки оплаты труда. Однако расценки оплаты труда, едва предоставив рабочему и его семье средства на более или менее сносное существование, снова отстают от уровня цен. Сие, заметил Даниахий, закономерно, ибо сейчас мы владеем лишь одним, примитивным и весьма грубым средством воздействия на экономическую жизнь, а именно — декретом. Декрет, тотчас проговорил Полторацкий, и Даниахий с неудовольствием на него глянул, решает задачи огромные. Декрет о земле, товарищем Лениным подписанный, — вот вам пример. Да, да, живо подхватил Даниахий, вы правы совершенно! Я говорю только о том, что есть и другие возможности… Декрет — средство чрезвычайно сильное, и не во всех случаях надо применять его… Взгляните: пока мы декретируем ставки, жизнь, издевательски нам подмигнув, меняется день ото дня, и то, что пригодно было вчера, вызывает недовольство, ропот и склонность к бутаде уже сегодня.