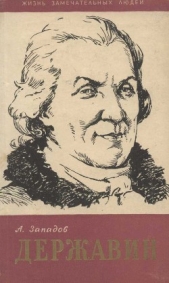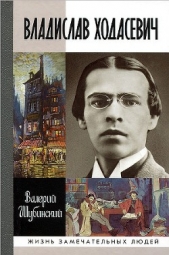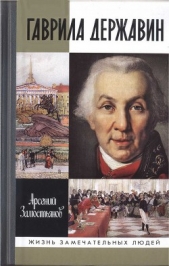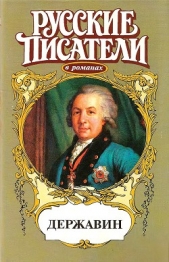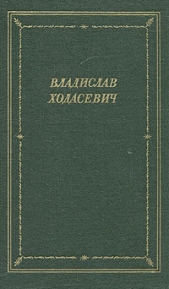Державин
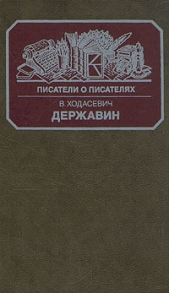
Державин читать книгу онлайн
Книжная судьба В. Ходасевича на родине после шести с лишним десятилетий перерыва продолжается не сборником стихов или воспоминаний, не книгой о Пушкине, но биографией Державина.
Державин интересовал Ходасевича на протяжении всей жизни. Заслуга нового прочтения и нового открытия Державина всецело принадлежит «серебряному веку». Из забвения творчество поэта вывели Б. Садовской, Б. Грифцов.
В. Ходасевич сыграл в этом «открытии» самую значительную роль.
Читателю, который бы хотел познакомиться с судьбой Державина, трудно порекомендовать более ответственное чтение.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Неизвестно, как и с чего началось их знакомство. Во всяком случае, к 1808 г. Травников сделался в доме своим человеком. Семейство Гилюса, впрочем, было невелико. Жена сбежала от него за несколько лет до того, оставив двоих детей. Мальчику было теперь 17 лет — Гилюс отправил его учиться в Германию. Тринадцатилетняя девочка осталась при отце, который сам был ее учителем. Ее вос- питание не было похоже на обычное воспитание тогдашних девиц. Елена знала французский и немецкий языки, имела хорошие познания в истории и географии, но главное внимание отца было обращено на математику, физику и химию. Девочка присутствовала при долгих беседах отца с Травниковым. Вскоре шутливая дружба возникла меж нею и молодым человеком. Травников забавлял ее эпиграммами, главной мишенью которых был он сам. Так, например, до нас сохранилась его надпись к скелету, стоявшему в кабинете Гилюса:
Травников учил Елену итальянскому языку и началам российской пиитики, которую, впрочем, считал устарелою. Они вместе читали Данта и переводили сонеты Петрарки. На лето Гилюс снимал небольшую дачу в подмосковном селе Всехсвятском. Елена и Травников вместе гуляли — обычным местом прогулок было кладбище и примыкавший к кладбищу бор. Елена собирала растения для своего гербария, на первом листе которого Травников написал стихи:
Внутреннюю историю Своих отношений с Еленой Травников утаил навсегда. Пытаться установить, как и когда возникла любовь между ними и кому принадлежала любовная инициатива, — значило бы пуститься в необоснованные психологические догадки. Достоверно лишь то, что однажды (это было в начале 1810 года) Травников спросил:
— Будете ли моей женой?
— Да, буду, — отвечала Елена, — и никогда вам не изменю.
Последняя фраза несколько странно звучит в устах четырнадцатилетней девочки, но не следует забывать, что жизненный опыт и общее развитие у Елены были не таковы, как у ее сверстниц и современниц.
Елена и Травников не скрывали своих чувств от доктора Гилюса, у которого с дочерью раз навсегда были установлены отношения, не допускавшие тайн или умолчаний. В ответ на декларацию влюбленных доктор ответил кратко:
— Дело ваше. Через два года можете пожениться, коли не передумаете.
Елене было ровно столько же лет, сколько было матери Травникова, когда начался роман между нею и Григорием Ивановичем. В залог будущего обручения Травников и Елена обменялись кольцами из своих волос. Не знаю дальнейшей судьбы этих колец, но в 1919 г. они еще были целы. Я видел их и держал в руках. Они почти одинакового соломенного цвета и одинаковой мягкости, разве что волосы Елены немного темнее.
Весной 1810 г. Гилюсы по обыкновению переехали во Всехсвятское, а в июле месяце произошла катастрофа. Под Москвой и в самой Москве открылась эпидемия оспы. Елена заболела и на десятый день умерла. Травников видел в гробу ее лицо, обезображенное иссиня-черными струпьями и застывшим гноем. Ее похоронили на том же кладбище, где недавно гуляла она с женихом. Так кончился этот роман, в котором с самого начала слишком многое напоминало о смерти и в котором вообще многое было слишком необыкновенно. Такие истории никогда не служат вступлением к семейному благополучию
III
Вряд ли Травников переписывался со своим пьяным отцом. Однако, потрясенный смертью Елены и не имея близких, он, видимо, написал отцу. Сохранился ответ Григория Ивановича — обширнейшее послание, написанное прыгающей рукой, по орфографии, фантастической даже для человека XVIII столетия. По существу это не письмо, а воспоминание о покойной Марии Васильевне Травниковой. В истории своего сына Григорий Иванович верно расслышал отголоски собственной драмы. Несмотря на сумбурность изложения и на то, что писавший порой пропускал то подлежащее, то сказуемое, поразительны в этом письме полнота, точность и своеобразная сила в изображении давних событий. Письмо насыщено неистовою любовью к женщине, которую Травников свел в могилу. Замечательно, что Григорий Иванович не только не умолчал о чувственной стороне своего увлечения четырнадцатилетнею Машей Зотовой, но писал о том почти бесстыдно, с отчаянием и сладостью: «Сии поцелуи, напечатленные младенческими устами твоей матери — о, помню их! ибо ничто нас не воспламеняет, как воображение о невинности, страстьми тревожимой! В брачные ночи не содержали они уже толикого пламени».
Обычных утешений в этом письме не было. Сочувствие сыновнему горю выразилось у Григория Ивановича в бурном наплыве собственных воспоминаний. Только в конце письма имеется краткое предложение приехать в Ильинское.
Василий Григорьевич решил ехать не на побывку, а навсегда. Два месяца, пока тянулись хлопоты об отставке, он редко выходил из дому и никого не принимал, кроме Измайлова, который посетил его несколько раз, встречая все более молчаливый прием. Травников почти не раскрывал рта, и Измайлов заметил, что его молчание было «подобно железу, раскаленному на морозе». Наконец, в октябре он уехал.
Встреча с отцом была лишена всякой чувствительности. Для Василия Григорьевича были открыты комнаты, в которых некогда жил он с матерью. Таким образом, отец и сын разместились на разных концах дома. Нужно думать, они встречались не часто, но этой внешнею разобщенностью лишь подчеркивалось их главное и глубокое сходство: оба несли свой крест с сосредоточенным ожесточением. Разница была только в том, что Григорий Иванович пьянствовал, а Василий Григорьевич жил, страдал и ожесточался в совершенной трезвости. Вина он никогда не пил, а теперь забросил и трубку, к которой одно время в Москве пристрастился. Бабы и девки из отцовского гарема, теперь уже, впрочем, полуупраздненного, с ним заигрывали, вероятно, в ожидании выгод, а быть может, из развратного соревнования. Однажды он не выдержал, поддался искушению, но затем изобразил происшедшее в стихах, исполненных неистового омерзения и такого же натурализма (невозможно из них привести хотя бы небольшой отрывок).
По отношению к крепостным держался он так, словно их и не было, не снисходя до деятельной жестокости, но и не вступаясь, когда их тиранил Григорий Иванович. В одном стихотворении, озаглавленном «Эклога» (вероятно, иронически), он говорит по этому поводу;
С каждым годом жизнь в Ильинском становилась мрачнее. Она стала ужасной с 1814 года, когда у Григория Ивановича начались приступы буйного помешательства. После того, как он дважды пытался поджечь крестьянские дома, его пришлось перевести из барского дома во флигель, стоявший на берегу озера и когда-то служивший банею. Флигель заперли на замок, а единственное окно забрали железной решеткой. Флигель тотчас же превратился в хлев. Стекла в окне Григорий Иванович выбивал и летом, и зимою. Иногда целыми сутками он стоял у окна, тряс решетку и выл. Голос его доносился до самого дома. В такие дни и ночи Василий Григорьевич прекращал обычные занятия, сидел неподвижно в глубине комнаты и терпеливо ждал, когда вой кончится.