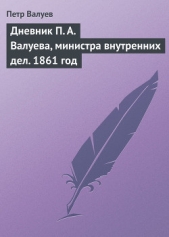Дневник. 1918-1924

Дневник. 1918-1924 читать книгу онлайн
Дневники Александра Николаевича Бенуа (1870–1960), охватывающие 1918–1924 годы, никогда прежде не печатались. Знаменитый и модный живописец, авторитетный критик и историк искусств, уважаемый общественный деятель — он в эти трудные годы был художником и постановщиком в Мариинском, Александринском и Большом драматических театрах, и иллюстратором книг, и заведующим Картинной галереей Эрмитажа. Свои подробные ежедневные записи Александр Бенуа называл «протоколом текущего безумия в атмосфере чада, лжи и чепухи».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На самом деле это, однако, не так. Не только я не могу усмотреть во всем, что произошло, признаков дерзости, но мне кажется, что поправки и изменения были продиктованы самым пиететным чувством к этим произведениям, реконструкция была произведена с величайшим вниманием.
В одном случае в «Спящей красавице» Лопухов не столько поставил себе задачу внести что-либо новое, сколько счел нужным вернуть старое к тому, что под действием времен (особенно пагубно сказывающимся на произведениях сцены, которые нельзя повесить на сцену или спрятать в шкафу) изменилось до неузнаваемости, что утратило даже простой и «живой» смысл. Я отлично помню «Спящую красавицу» такой, какой она шла первое время. Только что выпущенная из «мастерской» Петипа, с Брианцей, Гердтом, Стуколкиным, М.М.Петипа, Кшесинской, Чекетти и Никитиной в главных ролях. И вот я отлично помню, что тот балет был иным по самому смыслу, нежели позднейшая его редакция, просто утратившая (отчасти и из-за бездушно-блестящей обстановки Коровина) всякий смысл, превратившая его в одну из тех пошловатых, пустых феерий, которыми угощают в Париже и в Лондоне не слишком требовательную публику. Лопухову было невыносимо тяжело видеть, что чудесная музыка сопровождает бессмысленное действие на сцене, что прекрасные, чисто балетные куски чередуются с нелепейшими рутинными «размахиваниями рук», всегда заменяющими в мертвеющих произведениях настоящую пантомимную драму.
Лопухов слишком молод, чтобы помнить первоначальную редакцию «Спящей красавицы», но движимый тем самым пиететом, который нам так дорог, он «отказался допустить мысль», чтобы Петипа мог в свое время утвердить все те бессмысленности, которые, прикрываясь его именем, водворились в его произведение в качестве губительного паразитного элемента. Лопухов дерзнул освободить все еще живое тело балета от этой наросшей гнили. «Спящая красавица» от этого выиграла и заблистала своей прежней свежестью, она снова отошла от феерии и вернулась к хореографической драме, к ней в значительной степени вернулась ее поэтичность. Неужели же за все это Лопухов достоин кары и правы те блюстители заветов, которые усмотрели в этом соблюдении одно лишь пренебрежение традиций?
Напротив, я желал бы, чтобы Лопухов не остановился на этом, но продолжил свое дело освежения, возвращения к жизни, причем я оставляю за собой право и не согласиться с ним, если бы он (помимо собственного намерения) перешел бы вдруг через границу дозволенного — границу, которую, увы, невозможно вперед установить и которая отмечена тем, что принято называть тактом.
В «Раймонде» произошло иное. Здесь, вслушиваясь в музыку, Лопухов решительно отверг ее балетную «иллюстрацию» в финале второго действия, и тут «дерзание» его пошло дальше, чем в «Спящей красавице». Он действительно придумал новое окончание этого акта, вместо того длительного «недоумения», которым Петипа его завершил. Он постарался придать известный смысл тому, что происходит перед зрителями, после того как сарацин повергнут мечом крестоносца и всякая опасность для героини балета исчезла, самой Раймонде он дал активную роль, и нужно сознаться, что если благодаря этому ничего существенного в «осмыслении» этого, на редкость бессмысленного, балета, не получилось, то все же то тягостное «недоумение» рассеялось, и теперь завершительная сцена второго действия кажется убедительной (или почти убедительной).
Итак, здесь Лопухов решительно вставил свое новое, о чем Петипа как будто не помышлял. Но и в данном случае имеется достаточно оправдания поступку Лопухова, и первым среди них является то, что он ничего не заменял, а лишь «пополнил пустоту», угнетающую своим контрастом с пышностью и великолепием того симфонического номера, которым Глазунов кончает это действие. И вот теперь оказывается, что и композитору такое заполнение пустоты казалось всегда (и еще в самые дни создания балета) не только желательными, но и прямо необходимым. Несомненно, что Петипа оставил это место не разработанным, вероятно, в силу одного из тех приступов «творческой немощи», которая известна всем художникам и которая посещает их иногда, совершенно внезапно решительно парализуя их фантазии. Самые даровитые подвержены этим «приступам бездарности». И иногда лучшие произведения («Раймонду», впрочем, нельзя причислить к лучшим произведениям Петипа) бывают искалечены действием этих приступов. Лопухов из уважения к Петипа постарался заполнить получившуюся пустоту, он сделал это с величайшей бережливостью, с отличным тактом, не позволив себе что-либо, что нарушило бы весь стиль (столь условный) данного балета. Неужели в этом можно усмотреть кощунство, и разве не выявилось здесь скорее то, чем так силен русский (и в частности, петербургский) балет — пиетет? Но, разумеется, здесь налицо не пиетет буквы и рутины, а пиетет по существу — то самое, что может уберечь наш балет от всех тех благоглупостей.
Любопытные материалы оставил мне В.Воинов, покидая свое ночное дежурство в Эрмитаже. Он же поведал и грустную историю о внезапной кончине мецената, собирателя современной живописи А.А. Коровина, который мечтал создать музей русской современной живописи и передать его городу. Свое собрание картин Коровин хранил в Русском музее.
Записи Воинова относятся к 19 ноября — о банкете по случаю закрытия выставки «Шестнадцать», экспонентом которой он являлся в числе таких художников, как Рылов, Белкин, Фешин, Бобровский, Шиллинговский, ведущих активную творческую жизнь, испытавших влияние как Академии, так и новых течений, но все же стремящихся сохранить свое творческое лицо. Вот записи В. Воинова:
«Сегодня я отправился на закрытие выставки «Шестнадцать» в Аничковом дворце. Познакомился там с Аркадием Александровичем Рыловым. После закрытия выставки пошли в Европейскую гостиницу, пообедать на остатки доходов от выставки. Помещение гостиницы отделано заново. Шик! Европа! Беседовал с П.А.Шиллинговским. Он сетует на падение интереса к гравюрам в обществе, проектирует грандиозную выставку гравюр, к организации которой привлекает меня. Он очень заинтересовался экслибрисом, который проектирует «Аквилон» совместно с Комитетом популяризации художественных изданий.
Был тост за А.А.Рылова, которому исполнилось 25 лет после окончания Академии художеств. Все шумно приветствовали юбиляра — «художника ветра», имея в виду его «Зеленый шум».
Затем стали вспоминать разные эпизоды и анекдоты из художественной жизни и прочие забавные случаи.
А.И.Кудрявцев рассказал про скандал, случившийся на собрании: Прахов попросил слова и начал с того, что недавно они со студентами прошли археологические открытия и прочли египетскую стелу, содержание ее оказалось почти дословным вариантом мифологической басни «Педагог и розга». Речь в ней шла о том чудодейственном фокусе: кому она послужила, из того выходил толк, кому нет, из того ничего не получалось. После такого выступления Прахова, восхвалившего «чудодейственную розгу», часть аудитории аплодировала, но раздался свист. Все успокоились. Слово получил Манганари. Речь его свелась к тому, что слова Прахова — позор и большой позор. Это были дни свободы 1905 года. Свистел — это я. Раздались крики: «Довольно». Манганари разошелся и закончил речь так: «Удивляюсь студентам, их малодушию и не протестующим подобным речам, особенно перед всей собравшейся здесь сволочью!» И при этом он снял с себя пиджак, швырнул его вдоль стола, посыпались рюмки и тарелки, и заявил, что он уходит из Академии. На другой день он действительно подал заявление об увольнении.
По этому поводу А.Б.Лаховский рассказал аналогичный эпизод, имевший место на чествовании И.Е.Репина. Обедали после выставки в Таврическом дворце. После ряда хвалебных тостов и спичей встает кто-то и произносит полуироническую речь о том, что неизвестно, почему показалось Репину, что искусство у нас так мало ценят: «Я предлагаю всем почтить Репина на радость Отчизне». Тут встает взволнованный подвыпивший Разумовский и заплетающимся языком с плачем выкрикивает: «Что же это такое? Ведь мы чествуем великого Илью Ефимовича, а здесь его оскорбляют публично. На онучи! На онучи его Ивана Грозного!» Крики: «Довольно! Успокойтесь!» Но оратор не унимался, начал будоражить, кричать. Его выводят силой, в чем принял участие скульптор Симонов. Когда инцидент улегся, Репин произнес в задумчивости: «Это у нас в России всегда так кончается!»