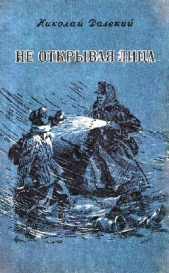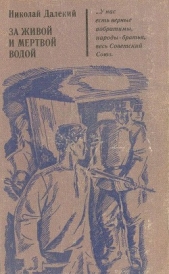За живой и мертвой водой
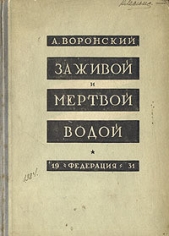
За живой и мертвой водой читать книгу онлайн
Александр Константинович (1884–1937) — русский критик, писатель. Редактор журнала «Красная новь» (1921-27). В статьях о советской литературе (сборники «Искусство видеть мир», 1928, «Литературные портреты», т. 1–2, 1928-29) отстаивал реализм, классические традиции; акцентировал роль интуиции в художественном творчестве. Автобиографическая повесть «За живой и мертвой водой» (1927), «Бурса» (1933). Репрессирован; реабилитирован посмертно.
В автобиографической книге «За живой и мертвой водой» Александр Константинович Воронский с мягким юмором рассказал о начале своей литературной работы. Воронский — будущий редактор журнала «Красная новь». За бунт его исключили из духовной семинарии — и он стал революционером. Сидел в тюрьме, был в ссылке… «Наша жизнь» — замечает он — «зависит от первоначальных впечатлений, которые мы получаем в детстве… Ими прежде всего определяется, будет ли человек угрюм, общителен, весел, тосклив, сгниёт ли он прозябая или совершит героические поступки. Почему? Потому что только ребёнок ощущает мир живым и конкретным.» Но и в зрелые годы Воронский сохранил яркость восприятия — его книга написана великолепно!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я настораживался не потому, что Рыбников сомневался в некоторых основных вопросах марксизма, а потому что в его тоне, в манерах улавливал вызов и какую-то намеренную отчуждённость. У нас разгорался спор. В спор вмешивались остальные члены кружка. Мы перебивали друг друга, обрывали на полуслове. Каждый ценил лишь своё собственное мнение, мнения же других считал вздорными. Мы расходились ещё больше чуждые друг другу.
Я приходил к Митеньке. Он тёр лысину и, по обыкновению, что-нибудь жевал, вытирая губы. Его товарищ по мастерской, Слободин, с приплюснутым носом и буйными рыжеватыми кудрями, читал брошюру или газету. У стола два молодых железнодорожника, в синих блузах, играли в шашки или «перекидывались» в дураки. Пожилой рабочий Николай свёртывал заскорузлыми негнущимися пальцами цигарку, сидел молча. Мои глаза схватывали, однако, их всех сразу и вместе. В собравшихся было что-то неуловимо общее, точно они пришли дружной группой из одного места, успели сговориться и что-то решить. Они казались мне также давно знакомыми. Почти никогда они не вели между собой отвлечённых разговоров.
Показывая на нового в нашем кружке рабочего с серым помятым лицом, Митенька говорил:
— Свойского человека привёл, слесарь он.
При этом он поглядывал на слесаря так, будто не прочь был его съесть и только не знал, откуда и с чего ему лучше начать.
Слободин оповещал:
— Макар сегодня не придёт, палец зашиб, вся рука горит.
— А мне, видно, расчёт придётся взять. С хозяином поладить не могу, до того опостылел, глаза бы мои на него не глядели.
Я развёртывал свёрток с литературой. Митенька плотоядно смотрел на листки и газеты, подмигивал:
— Гостинчик принесли, покушаем.
— Прилетела птица-синица из-за моря дальнего.
— Далёк путь оттуда до нас, далёк. Сколько городов и стран газета-то прошла.
— Товарищ, а как там наши живут, по заграницам-то? Неспособно им там!
— На каторге и того хуже. Читал я на днях про Орловский централ. До чего измываются над нашим братом, сказать невозможно. Теперь, кто идёт туда, кресты по дороге вымаливают: ежели придёшь в Орёл без креста на шее, бьют при приёме в тюрьму смертным боем.
Беседуя с рабочими, я невольно подчинялся их человечной, простой и деловой обстановке. В их вопросах, замечаниях не содержалось ни скрытых мыслей, ни желания показать своё личное. Я заметил, что и Митеньку, и его товарищей теория сама по себе не занимала. Важным и нужным им казались люди и отношения между людьми. Они шли от человека к идеям, мы же, наоборот, — от идеи к человеку. Истина для них не имела самостоятельной ценности, они рассматривали её как необходимое, но подсобное орудие. Почему? Я отвечал себе: потому, что они были люди постоянного физического, упорного общественного труда.
И ещё я увидел одно, находясь среди них. Когда я размышлял, когда я читал о будущем, о социализме, о нашей победе, я больше мечтал обо всём этом. Мои же слушатели не были склонны к мечтаниям. Они подробно расспрашивали, как, на каких началах при социализме будут управлять производством, в каком смысле надо понимать уничтожение денег и новую организацию обмена. И здесь социализм для них служил лишь рабочим орудием.
Наши собрания не обходились без спора и шуток. Нюра, наслушавшись разговоров, что настанет время — и каждый сможет пользоваться продуктами и предметами общественного труда по своим потребностям, решительно заявила:
— Слава богу, что не скоро это стрясется, а то мой обожрался бы в первый день. Я от него и сейчас всё прячу.
Митенька смущённо закашлялся.
— У меня же болезнь. Тогда лечить будут.
— Тебя вылечишь! Только и знаешь шастать по шкафам и печкам. Никогда этого, по-моему, не будет, — твёрдо заключила она. — В одну неделю всё полопают!
Слободин возразил:
— Это сейчас человек жаден от плохой жизни: злят и дразнят его… а так он ничего… человек-то.
В отместку, должно быть, Нюре, Митенька спросил, улыбаясь:
— Правда это, будто тогда от баб можно отказываться, когда только задумаешь? От них сладу нет.
У Нюры поднялась грудь.
— Закройся, шатун, закройся ладошкой. Бабы-то первыми от вас, непутёвых, уйдут.
— За один трудовой талон две бабы купим, — не унимался Митенька.
Не стерпев, Нюра подалась в кухню, в дверях бросила:
— Вот я посмотрю, как ты у меня завтра запоёшь утром без кофею… ей-ей, ничего не дам.
— Ну, ты того, не очень, — сразу сдался Митенька.
Ходил я также в кружок гвоздильного завода. Он собирался в посёлке за городом, у Нефёдова. Вдумчивый и начитанный, Нефёдов веско держал себя на заводе и среди товарищей, говорил мало, но твёрдо, в доме следил за чистотой и порядком, был добрым семьянином, и я любил смотреть, как приятно и широко он улыбался, когда играл со своими малолетними детьми.
Однажды вечером, после очередного собрания, я отправился из посёлка в город, когда разбушевалась метель. Рабочие уговаривали остаться на ночь у Нефёдова, я отказался. Едва я вышел из посёлка, со всех сторон меня охватил буран. Колкий, сухой снег слепил глаза, хлестал больно в лицо. Небо и земля смешались в одну тёмно-серую муть, вьюга выла, шипела, дико свистела, свивала воронки и жгуты. Скоро я сбился с дороги, но продолжал идти: вдали слышались паровозные гудки и я был уверен, что они помогут найти город. Я увязал в снегу, падал, натыкался на колья, торчавшие по всему пустырю почему-то в большом количестве. Неожиданно я погрузился глубоко в снег. Попытался выбраться, но завяз ещё глубже. Снег доходил до шеи. Я барахтался, разгребал кругом себя — это не помогло. Я попал в яму. Снег набился в рукава, за ворот, за пазуху. Силы меня покидали. «Не выберусь». На меня напал страх. Шевелились сугробы, снежные вихри взмётывались смертными саванами, косяки снега гнались друг за другом, и мелкая поземка, дымясь, стлалась, будто бежали сплошные стада седых и злых зверьков. Меня заносила пурга. «Не может быть, невероятно. Разве я могу погибнуть?» Представилось, будто всю свою жизнь я шёл к какой-то очень важной и заранее известной цели. «Неужели же может исчезнуть всё это, вся моя жизнь оттого, что я оступился, поставил не туда, куда следует, ногу? Нет, это невозможно, это дико, чудовищно». Я вспомнил, что в опасные для жизни моменты никогда не следует терять самообладания, попытался себя успокоить. Отчасти это удалось. Снова и снова я стал карабкаться из ямы и опять обессилел. Я уже озяб, пальцы на руках окоченели. Я снял перчатки, поднёс руки ко рту — обогреть их дыханием. Пальцы стали бескровными. Я содрогнулся от жалости и горькой последней любви к своей плоти и закричал тонко и неистово. Я не узнал своего голоса в этом подвизгивающем завывании, но в следующее мгновение я кричал уже проще и увереннее. Это меня немного успокоило. Вдруг показалось мне, что я вижу впереди себя огонёк. Но его уже не было. Вот он мелькнул опять и тут же пропал. Я напрягал зрение. Огонёк, неверный, одинокий, беспомощный и в то же время такой близкий и родной, то пропадал, то на мгновение появлялся. Белёсоватый и туманный, он висел в пустоте — моя надежда, спасение, моя жизнь. Иногда он исчезал надолго, я ждал, я жаждал его. Он мелькал, и я боялся, ужасался, что вот-вот он загаснет совсем, навеки. Всё существо моё сосредоточилось на спасительном пятне. Огонь не приближался и не удалялся. Я не знал, чем он может помочь; из ямы я выбраться не мог, на голос никто не откликался, но я верил, доверялся ему: он показывал, что жилье недалеко, он оставался последним прибежищем и пристанищем. Мои органы: слух и зрение, обоняние, осязание, мускульное чувство — с особой, обостренной силой воспринимали, ловили окружающее, но я ощутил так же, как никогда не ощущал, что они не только воспринимают, но и хотят, хотят страстно и неистово.
Был потом момент, когда я вспомнил, как умирала моя родственница, молодая женщина. К ней привели проститься семилетнюю дочь, тонкую светловолосую девочку Полю. Мать металась в предсмертной агонии с изуродованным и воспалённым лицом. Я посмотрел на Полю. Её испуганные глаза неимоверно расширились, мертвенная бледность покрыла её лицо, оно тоже подёргивалось в судорогах. Почти чёрная синева поползла из-под глаз по щекам, к губам, ко лбу. Поля не сводила отчуждённого, застывшего взгляда с матери. Я наблюдал её смерть через лицо девочки, и это было почему-то всего страшней. Вот это я вспомнил и закричал снова, надрывая лёгкие.