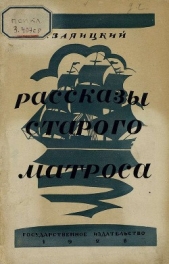Рассказы старого трепача

Рассказы старого трепача читать книгу онлайн
Воспоминания известного режиссера, художественного руководителя Театра на Таганке охватывают без малого восемь десятилетий. Семилетний Юра присутствовал на похоронах Ленина в 1924 году; «Евгений Онегин» — премьера театрального мэтра Любимова — состоялась в 2000 году.
В своей книге автор придерживается хронологии: детство, первые театральные роли, создание легендарной Таганки, изгнание из СССР, возвращение, новые спектакли. По ее страницам проходит целая вереница людей — друзей, единомышленников и недругов, врагов. Эти люди во многом определяли культурно-политическую жизнь страны в XX веке. И это придает мемуарам Юрия Любимова удивительную неповторимость.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
М.Д. Какие главные обвинения, вам предъявлялись за все двадцать лет?
Ю.П. Идеологические выверты и очернительство. И «народ и власть» — тема.
М.Д. Это когда выходит человек из зала и говорит потом в зал: «Ну что ж вы молчите?»
Ю.П. Это одно из замечаний, что надо снять эту мизансцену. Потом, костюмы их не устраивали — осовременивание. Потому что, предположим, сын Бориса Федор был в голубом свитере и в джинсах. Там были и мундиры, и на некоторых шинели, рясы — там были разные костюмы всех веков — они как бы охватывали историю Руси. Это было в замысле спектакля. А уж они докладывали начальству черт те что — говорили, что я всех одел матросами, что все ходят в тельняшках. Потом договорились до того, что «вы что, не знали, что Андропов был матросом!» Я говорю:
— Первый раз слышу!
— А вы что, биографию вождя не читаете?! — что он служил во флоте. — Я говорю:
— Простите, но тельняшка не изобретение революции. Это еще было при парусном флоте, чтоб она не сливалась с парусами — тельняшка. Что вы все на свой счет принимаете.
Тельняшка была у Гришки Отрепьева под таким черным бушлатом…
М.Д. Что еще было в «Борисе…», что их не устраивало?..
Ю.П. Осовременивание, что ну, предположим, глава хора был во фраке, как дирижер. Он и дирижировал хором по необходимости. Они усмотрели в этом дирижере, что народ все время пляшет под палочку. Больные люди. Это даже мне в голову не могло прийти.
Там есть еще у них такая форма — «протокол приемки спектакля». Протокол «Бориса…» был подписан. Там были написаны обязательные замечания, например: «Артист Губенко не должен выходить из публики на „что же вы молчите“»; «переодеть таких-то артистов», «переделать такое-то место». И «при исправлении этих недостатков спектакль может быть допущен к эксплуатации». То есть может пойти. И мы все подписали это: и начальник Управления, и директор, и я. Вот что стоит их протокол. Он лежит, протокол подписан, и я его выполнил.
М.Д. Это их закон, что если протокол подписан, может идти спектакль?
Ю.П. Да, да.
М.Д . И потом пришел звонок.
Ю.П. Да нет законов в этой стране. Ну как у Пушкина: «В России нет закона — есть столб, а на столбе корона».
М.Д. Когда они прекращают вам репетиции чего-то — на основании какой информации? Они видели репетицию?
Ю.П. Доносит кто-нибудь. Ну, в коллективе есть же свои доносчики. Это принцип системы. А в таком театре сомнительном, как Таганка, их больше. Потом они иногда просят разрешения прийти на репетицию, я разрешаю — пожалуйста. Я никогда не делал секрета из своих репетиций. Зачем? Хотите — приходите.
М.Д. Еще один вопрос. У меня есть метафора, что цензор — это бес художника, потому что оба: бес и цензор — они оба рассматривают, что у человека внутри. С одной стороны, чтобы выявить эту внутренность, а с другой стороны, чтобы контролировать внутреннюю жизнь? Два лица, как Янус.
Ю.П. Ну, это поэтично, но в реальной жизни, по-моему, проще обстоит дело.
Они могут до цензуры еще цензуровать — сами. Они могут меня шантажировать: «пока вы не вычеркнете вот это, мы не отправим в цензуру». А если они не отправляют в цензуру, то не может идти спектакль, и они могут мне не разрешать репетировать.
Цензор — это таинственное лицо, которое с тобой не встречается, ты не знаешь, кто он. Формально в Советском Союзе запрещены только военная тайна, порнография, открытое выступление за свержение правительства и призыв к войне. А дальше уже действует интуиция цензора. Как и у художника. Значит, это борьба интуиций художника и цензора. Когда я читал 83 страницы вымарок «Мастера и Маргариты», я большинство страниц вымаранных понял — мотивы цензора, но часть текста, который он вымарал, я не понял. Это была чистая интуиция цензора, что это надо тоже вымарать. Потому что это были странные вымарки. Там не было ни намека какого-нибудь, что может вызвать раздражение правительства советского. Значит, это какие-то сугубо личные, интуитивные предположения цензора. Потому что советский цензор понимает, что в богатейшем словарном запасе русского языка правительство процентов 60 слов не выносит, они сузили язык, насытили его демагогией, идеологией, испортили язык сокращениями, бесконечными жаргонизмами: партийным жаргоном, бюрократическим жаргоном. Если б ему разрешили, предположим, вымарывать Достоевского, то он половину бы выкинул: ненужные слова, которые вызывают сомнения, куда-то заглядывают, туда, куда не положено советской этикой заглядывать.
М.Д . Значит, не только текст вырезается, но и слова отдельные мешают?
Ю.П. Конечно, у каждого поэта есть свой словарный запас, что отличает его от другого — его язык — так и у советской власти и ее цензуры есть свой язык, который ничего общего с русским языком не имеет. Поэтому вся официальная советская литература, которая одобрена цензурой и поднята на щит, написана именно этим убогим официальным языком. И это их язык, поэтому они так охотно это пропагандируют, утверждают, награждают, отмечают и так далее. Это их детище, их язык. Это и называется «социалистический реализм». Ну зачем им слова: «Как приятно ласкает ухо колокольный звон…» — это все подлежит цензуре. Потому что мы боремся с религией. Вот мы с тобой разговариваем и слышим колокольный звон. Это все не нужно. Поэтому зачем стихи:
Это все ненужные стихи.
Это не Пастернак. Это Фет или Майков. Учили мы еще в школе. Атеисты, зачем им это нужно. Какой благовест? Никаких храмов нет, все закрыто, звон не разрешен в Советском Союзе. Колокола звонят только по праздникам, по особым случаям, специальное разрешение нужно. Партийный звон может круглые сутки быть. Сколько боролись, чтобы в селе у Пушкина, в Святогорском монастыре повесить колокола, чтоб просто не были эти страшные пустые дыры в колокольнях. Повесить колокола. Не разрешают.
Тут нет никакого смысла. Утверждение своего режима, идеологии и власти — все.
Когда мне переделывали и портили спектакль «Павшие и живые», начальник Родионов, шахматист, запер все двери и решил сам со мной заняться цензурой. Говорит, «давай так, по-товарищески, неофициально…» Взял текст. «Ну зачем ты этого Пастернака сюда? Только что эта история с вручением Нобелевской премии. Ну он же сам в конце концов признался, премию не взял, написал письмо Никите Сергеичу… Ну зачем у тебя? „Скучно в нашем саду?“ Зачем?»
М.Д . Квалификация актера, поэта, писателя — более уважается в России, чем в некоторых западных странах.
Ю.П. У нас зритель более чуток к честности художника.
Люди сразу чувствуют, что он не карьеру делает, а честно служит искусству. И публика всегда удивительно благодарна тем людям в искусстве, которые этот духовный голод восполняют, духовную жажду утоляют.
М.Д. Духовность художника гораздо более просто понимается в России, чем в любой другой стране?
Ю.П. Потому что она задавлена, как вы не понимаете? И когда вы видите этот живой родник, к нему все тянутся.
М.Д. Считаете ли вы, что и на Западе существуют какие-то внешние влияния, которые влияют на вашу художественную личность.
Ю.П. Безусловно, это есть, конечно. Консерватизм публики. И когда художник несамостоятельный, несильный — как личность, он может начать уступать, он может стараться угождать публике, чтоб иметь успех, рассчитывать на определенную публику.
Мне часто задают вопрос: «А на какую публику вы рассчитываете?» — на Западе. Это для меня странный вопрос. Я никогда, работая там, вообще ни на что не рассчитывал. Я просто считал, что если эта проблема и художественно и по нравственным качествам своим меня очень волнует, и я чувствую интуицией, что это должно быть на сцене, я всегда это делал. И если мне не закрывали спектакль — то потом я понимал, что раз он много лет идет, то люди хотят это смотреть. Значит, это им тоже интересно, как и мне, рассмотреть эти идеи, эти мысли, эту форму художественную — данное произведение искусства. Когда я чувствовал, что они мне начинают разрушать весь строй спектакля, и он теряет свой художественный смысл, я им говорил: «Закрывайте. В таком виде я не буду выпускать спектакль». Поэтому они и назвали меня «бракоделом»: «Вы сделали, а оказалось негодным».