Позвонки минувших дней
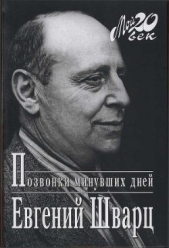
Позвонки минувших дней читать книгу онлайн
В дневниках одного из лучших советских драматургов Евгения Львовича Шварца (1896–1958) без прикрас рассказано о его собственной жизни и о десятках близко знакомых ему людей — С. Маршаке, К. Чуковском, Д. Хармсе, Н. Олейникове, М. Зощенко, Л. Пантелееве, Б. Житкове, К. Федине, В. Шкловском, М. Слонимском и др.
Читатель встретит на страницах умного, тонкого, открытого, доброжелательного, ироничного собеседника, иногда — беспощадного критика и всегда — тонкого стилиста.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Целый день писал третий акт и наконец слепил его с грехом пополам. Договорился с Олечкой о перепечатке и засел за сокращения и обработку первых двух актов. Мы решили поехать в город вечером восьмичасовым. В седьмом часу прочел я третий акт Катюше и ужаснулся. А я уж успел дозвониться до Якушкиной, что все готово и я десятого выеду с пьесой в Москву Чувство у меня было такое, что не переделать мне третий акт. Прошел слух, что расписание изменилось. Я пошел на станцию справиться. Слухи не подтвердились. На обратном пути увидел я левака и договорился с ним. И мы поехали в город на машине. У нас еще лежит снег, только местами выступили прогалины. Так идет до Солнечной. И вдруг после Сестры — реки все меняется. Только пятнами уцелел тут снег, кажется, что мы попали в другой климатический пояс. Между Лисьим Носом и Ольгино, хотя тут довольно густой, хоть и молодой, лес, снег тоже растаял. Значит, дело не в том, открытая или закрытая местность. Думаю обо всем этом, а сердце болит: «Пропала пьеса, погибла пьеса!» С таким чувством несу ее Олечке. И вдруг соображаю: «Сегодня суббота. Олечка будет печатать два дня. Следовательно, до понедельника у меня есть время заняться несчастным последним актом». Забираю его, и мне делается веселей несколько. Сегодня мне страшно к нему прикоснуться. Звоню Козинцеву, еду в гости. Сашенька, внимательный, несколько удивленный, в купальном халатике с капюшоном, сидит после ванны в кроватке, а бабушка читает ему «Почемучку». Я помню, как писалась эта книга, как Николай Макарович сердился на слово «почемучка», казавшееся ему непристойным, и мы соглашались с ним. А книга прижилась. «Который раз читаю — не сосчитать! — жалуется бабушка. — А он все требует: эту, эту книжку». Возвращаюсь домой. В Ленинграде совсем уже весна. Козинцевы искренне удивились, что в Комарове есть снег. Иду по весенним улицам, и все как будто камень на сердце — третий акт! Перечитываю. Появляются надежды на то, что он исправим. Думаю. Сегодня Благовещенье [117].
Спал, как всегда, в мучениях. Сны все о том, что я уже сижу за столом и переделываю, все переделываю пьесу. Наконец, в девятом часу, я принимаюсь за это дело наяву. Убеждаюсь, что поправками и вставками ничего не добьешься. Начинаю попросту переписывать весь акт, кроме пролога и двух — трех страничек, заново. Работа идет, или мне кажется, что идет. Надо в ДЛТ, но я уговариваю Катюшу, чтобы она пошла туда одна. Продолжаю писать. Возвращается Катюша. Она купила шелковый зонтик Наташе к рождению, потом чемоданчик, не слишком маленький, но и не большой, как раз такой, какой нужен для поездок в Москву. Купила мне две рубашки. Словом, все вышло удачнее, чем в моем присутствии. Я там веду себя нетерпеливо. Во всяком случае, за рубашками я бы не стал протискиваться через толпу. Я прочел Катюше поправки. Получилось много лучше, чем в первом варианте. Я стал пробиваться дальше, уже несколько слишком возбужденный и уверенный в успехе. Приходилось оставлять работу и шагать по комнатам. Вечером пришлось мне заехать к Наташе Шанько. Праздничный Ленинград, который, не в пример праздничному Майкопу, приятно возбуждает меня. Мне поручено на обратном пути купить что- нибудь к ужину, но сегодня воскресенье. В восемь часов все закрыто. Захожу в «Метрополь» на Садовой. Там филиал ресторана продает жареную баранину, свиные котлеты, ростбиф, который я и покупаю. Теперь весь третий акт мне ясен и представляется мне таким прекрасным, каким ему в действительности никогда не быть. Я думаю о нем в ресторане, на улице, дома. Меня опьяняет мысль, что я спасен, что пьеса кончена, что я вообще счастливец. У нас Верочка. Меня уговаривают сыграть одну партию в 501. Я играю, и мне везет, и я в последнюю сдачу проигрываю. И мгновенно исчезают уверенность, опьянение счастья. Я сажусь дописывать — и ни с места. Бьюсь, бьюсь и злюсь на себя. Зачем было играть в карты? Как я забыл, что уверенность, опьянение надо беречь, а я, дурак, погасил их. В четвертом часу ночи, двинувшись вперед мало, я иду спать в отчаянии.
Утром, отрезвев от восторга и отчаяния, довожу пьесу до конца. Отношу Олечке. Ее несколько пугает, что последний акт написан от руки. Успокаиваю ее тем, что пишу я безобразным, но разборчивым почерком. Уношу домой тридцать шесть страниц, уже перепечатанных ею. Я ободрен тем, что она хвалит пьесу. Правлю перепечатанное. Иду на городскую станцию, чтобы взять билет на завтра. Оказывается, это не так просто. Еду в Литфонд — и пугаюсь. Зуева, которая достает у нас билеты, отсутствует. У нее умирает мать. Выручает Союз. Они посылают свою курьершу по имени Шурочка. Она умеет доставать билеты. Я постепенно прихожу в состояние, близкое ко вчерашнему. Правда, третий акт уже написан и, конечно, совсем не так прекрасен, как представлялся в мыслях, но все же это много лучше того, что было слеплено в субботу…
Дома узнаю, что, пока я добирался из Союза, курьерша уже принесла билет на «Стрелу». Это приводит меня в состояние «я счастливец»… Олечка уже печатает третий акт, что меня радует. И при этом продолжает восхищаться пьесой, что укрепляет меня в вышеназванном состоянии. Вечером у меня уже вся пьеса. Заходит Пантелеев. Потом Лиза и Верочка. Уговаривают меня прочесть третий акт. Слушают холодновато. Расхолаживает середина с пословицами, о чем гости и говорят мне. Это меня отрезвляет, но в отчаянье не приводит. Ведь это не карты! После ухода гостей нахожу некоторые варианты и вставляю их. Пьеса выигрывает. Катюша огорчена критикой. Уверяет, что я напрасно читал. Боится, что я в Москве буду читать пьесу в театре без необходимой уверенности. Опять четвертый час ночи. Иду спать в спокойном настроении. Пьеса дописана — а это главное.
Под Москвой в кустах, на деревьях, в ложбинах плыл туман. Лил дождь. Тоска. Я вспомнил примету, что уезжать в дождь, а приезжать в вёдро хорошо. А мне как раз в дождь и предстояло приехать. Но вот подул ветер, и облака разошлись. Не вполне, однако местами увидел я голубое небо. Мы уезжали, точнее, садились в вагон со стороны необычайной, с узенькой платформы, потому что с нами ехал какой‑то важный начальник. Сейчас меня беспокоила мысль, что в Москве нас выпустят на левую сторону и я не встречусь с Наташей. И я вдруг рассердился на моего многолетнего врага — на мелкую, но неотвязную мнительность. Я спокойно рискую собой в случаях более или менее опасных. На это, очевидно, и уходит вся моя выдержка. Я беспокоюсь и раздражаюсь по пустякам, и сейчас вот, вместо того чтобы любоваться только что освободившейся из‑под снега землей, я думаю о том, чего, вероятно, не будет. И в самом деле. Хоть нас и выпустили на левую узенькую платформу, я увидел среди встречающих озабоченно вглядывающуюся в приезжих тощенькую и бледную дочь. И вот мы сели в такси и отправились к ней. Заехали в гастроном под гостиницей «Москва», купили торт и приехали к знакомым воротам. Из школы выходили девочки. Рассчитываясь с шофером, я услышал, как они кричат: «Андрюша, Андрюша идет!» Я оглянулся. Феня шла из ворот с Андрюшкой, вела его за концы шарфа, пропущенные мальчику под мышки. Боже мой, какой он синенький, маленький, жалкий, в каком‑то самодельном чепчике. Наташа любуется сыном, с гордостью показывает его мне. В комнате ребенок выглядит менее жалким. У него славный лоб, большие темные глаза. Очевидно, на улице он замерз, в комнате синеватый цвет лица исчезает. По полу он бегает без поддержки шарфа. Увидев заводного ослика в тележке с прыгающим кучером, Андрюшка приятно улыбается. И я, наконец с чистым сердцем, в десятый раз подтверждаю, когда Наташа спрашивает: «Правда, он очень славный?» Звоню по автомату в МТЮЗ. Отношу туда пьесу. Читку предположительно назначают на субботу. Обедаю. Москва нравится мне.
В час иду к Маршаку. Он выглядит лучше, чем в мой прошлый визит к нему. Волосы снова стоят дыбом, и я этому рад. Последний год он их причесывал гладко, отчего казался присмиревшим. Вчера у него был сердечный припадок, от этого Маршак говорит особенно глухим и грудным, столько лет знакомым голосом. Я рассказываю, что писал о нем. Слушаю его стихи. Следы вчерашнего припадка исчезают без следа. Маршак ссорится со своей постаревшей секретаршей Розалией Ивановной, которая не может сразу найти переводы из Гейне, сделанные Самуилом Яковлевичем накануне, ссорится с редакторшей не известной никому из нас газеты «Тревога». Редакторша сказала по телефону: «Вы нас подводите, где же стихи?» — и получила в ответ по телефону же целый взрыв. Я иной раз испытываю настоящее счастье, наблюдая все это, погружаясь в столь напоминающую молодость, кипящую примаршаковскую обстановку. Наконец прощаемся, причем сегодня мы оба довольны друг другом. (Любопытно, что Маршак только от меня узнал, что Элик поет песни белорусские, английские, русские. Он очень удивился.)..


























