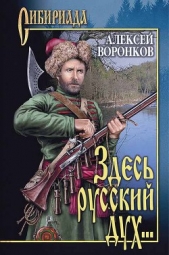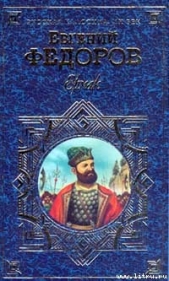Дар бесценный

Дар бесценный читать книгу онлайн
Жизнь каждого подлинного художника — подвиг. О творческом подвиге одного из великих русских живописцев, Василия Ивановича Сурикова, написала эту книгу внучка его Наталья Петровна Кончаловская.
И может быть, впервые в русской литературе жизнь и творчество живописца-деда доводится воспеть поэтессе-внучке, на этот раз воплотившей в художественной прозе как внутренний, так и внешний образ героя. Автор, как бы раскрывая читателю двери мастерской, показывает сложнейший процесс рождения картины неотрывно от жизни и быта крупнейшего русского мастера кисти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Из путешествия по Испании Василий Иванович привез много рисунков и акварелей необычайной силы цвета и выразительности. Он возвращался на родину, полный новых ощущений и впечатлений.
Посещение монастыря
Квартира в доме Полякова стала Суриковым велика. Жизнь их сводилась к постоянным выездам. Больших полотен Василий Иванович не писал. Хозяйство вести было некому. Они решили поселиться в гостинице-пансионе. Таким был «Княжий двор», принадлежавший князю Голицыну, который постоянно жил зимой в Париже, а летом в своем имении Дубровицы, поэтому никто из служащих никогда не видел мифического владельца гостиницы.
Трехэтажное здание «Княжьего двора» находилось на Волхонке, против Музея Александра Третьего, — теперь Музей Пушкина. Внутри было мрачно, тихо, холодно. Широкие длинные коридоры с полами, залитыми асфальтом и натертыми до блеска, были всегда безлюдны, казалось, здесь никто не живет. А жили там в высоких и больших комнатах подолгу — годами. Среди жильцов было много знаменитостей: композитор Гречанинов, скульптор Опекушин, профессор Сезерцез.
Был даже особый корпус, где останавливались проездом исключительно художники. Там, бывало, постоянно жил Репин. В главном корпусе постояльцы были солидные. Жила там, например, одна старуха — помещица Сатина, на зиму она приезжала в Москву, а летом уезжала в деревню. Старуха напоминала гоголевскую Коробочку; от скуки она постоянно звала конторщиков играть с ней в карты — ей было развлечение, а конторщикам прибыль: они уносили в карманах груды орехов и шоколадных конфет.
Суриковы сняли в верхнем этаже главного корпуса две комнаты. Им было удобно, как нигде, — тихо, спокойно, и незачем было хозяйством обзаводиться и держать прислугу.
В комнате у Василия Ивановича был телефон. По вечерам к нему приходили друзья — поэт-художник Максимилиан Волошин, актриса Массалитинова, критик Никольский, большая приятельница танцовщица Наталья Тиан, сестры Пемовы, старый коллекционер Лезин с супругой, госпожа Гречанинова. К. Елене Васильевне приходили ее подруги-курсистки— Коржевина и Легерт, была еще одна худенькая, с густыми черными бровями — Оля Гутоп. Василий Иванович недолюбливал ее за легкость нрава и с иронией спрашивал у дочери:
— А эта, у которой лицо бровями испачкано, тоже придет?
Лена обижалась за подругу, но не могла удержаться от смеха. Она была еще довольно мила, любила пофрантить, причесывалась по моде, близоруко щурилась в лорнет.
Судьба Лены не складывалась, она продолжала жить с отцом. Писала реферат на тему о французских философах-материалистах XIX века, в промежутках пробовала писать романы, рассказы, стихи, пьесы, но все на половине бросала. Мечтала о сцене, часто плакала. Не зная, куда истратить свою энергию, она бросалась то в филантропию, то в философию, то в эстетику и обожала стихи Волошина.
С Волошиным Василий Иванович был связан большой дружбой и рассказывал ему о своей жизни. И тут художник Волошин забывал о стихах и с увлечением записывал все эти беседы, которые впоследствии вылепились в одно из самых лучших и самых близких к Сурикову изображений его человеческого и творческого облика, — ту биографию, без которой не обходился ни один автор научного или художественного труда о Сурикове. Обычно они беседовали вдвоем, пока не приходила Лена, часто с подругами. Появлялись сестры Пемовы, заглядывала госпожа Гречанинова — большая охотница до споров об эстетике, и тогда уже Волошин превращался в поэта и начинал читать стихи. Лену пленяли утонченные мысли эстетов и манера их выражать, а Василий Иванович сидел с гостями за чайным столом и не мешал им вести модный в то время спор об эстетике и витать в облаках в поисках какой-то нереальной красоты. Василий Иванович молча наблюдал за ними, прихлебывая чай из блюдечка, а в углу комнаты стоял мольберт с большим полотном, обернутым простыней. Это была новая картина, далекая от модного упадочничества, от декадентских веяний, так же как и от псевдонационального дешевого стиля начала XX века, стиля, который шел от кустарных выставок прикладного искусства, открыток типа Соломко, пошлых фигурок «молодцев», «троек», «боярышень», рассчитанных на вкус потребителя. Все это было дешевым подражанием подлинному — народному.
Новая картина Сурикова изображала «Посещение царевной женского монастыря». Тема эта пришла не неожиданно, — он много раз читал «Домашний быт русских цариц» Забелина. Там он нашел боярыню Морозову, там нашел княгиню Ольгу, оттуда появилась идея написать царевну Софью, наброски которой уже были сделаны, но что-то останавливало художника, и он увлекся чтением Домостроя и описанием жизни теремов.
Царский терем в жизни русских царевен играл жестокую роль. Каждой самой бедной девушке могла позавидовать царская дочь, потому что в любой русской семье дочерей старались «сбыть с рук» — выдать замуж. Волей или неволей, но она становилась женой, хозяйкой, матерью. Только царевны были лишены всякой возможности самого обыкновенного человеческого счастья. Выйти замуж за человека не царской крови они не могли, — кем бы он ни был, он «холоп». Только в сказках царевен завоевывали герои из народа, преодолевая опасности и злые чары. За принцев царской или королевской крови русские царевны тоже не могли выйти замуж, — иноземцы считались еретиками, да и никто из них не видел этих узниц, живших взаперти, погрязших в невежестве, вечных пленниц душного терема, окруженных мамками, кормилицами, шутихами, ворожеями и сенными девками. Темный, истеричный, подобострастный и лживый мир окружал их, и путь у них был один — только в монастырь. Царевны приносили в монастырь богатое приданое, и монастыри стерегли царевен, словно капкан добычу.
На картине Сурикова царевна, осмотрев обитель и отстояв обедню, выходит из монастырской церкви. Испытующе, выжидательно смотрит сбоку на царевну игуменья: «Понравилось ли ей?» Старые монахини с любопытством заглядывают в светлое прелестное лицо царевны. А молодые послушницы смиренно склонили полные живого и трепетного лукавства лица — трудно убить в молодых существах брожение жизни. И как в скитах, так и в теремах «Житейские грехи можно было всегда прикрыть постническою мантией… Весьма понятно, чем должны были казаться Петру все эти богомольные, постнические подвиги царевны и ее сестер, весь этот старый домострой жизни, прикрывавший своими досточтимыми формами самые растленные нравственные начала». Так говорил историк Забелин, описывая быт русских цариц.
Но та царевна, которую изображал Суриков, еще чиста и по-детски доверчива. Она выходит из церкви, полная восторженного спокойствия и убеждения в чистоте помыслов обитательниц монастыря, «спасающих свои души за его стенами». Недаром боярыня-мамка, знающая все и вся, зорко смотрит за тем, чтобы окружающее царевну благочиние ни в чем не нарушалось. Под озаренными горячим полыханием свечей иконами в золотых окладах вытянулся ряд монахинь, как темная сила, которой суждено затащить, опутать и опустошить душу и ларцы этой юной красавицы, которая медленно плывет в платье серебристого атласа, украшенном расшитым золотом оплечьем с самоцветами и жемчугами. Словно чистое голубое холодное сияние исходит от этого платья.
Василий Иванович писал картину крупными мазками — «по отлипу», как он сам выражался об этой манере накладывать свежие мазки по еще не просохшему, липкому вчерашнему слою краски. Эти крупные мазки придавали блеск рефлексам в лепке лиц, игре самоцветов, полыханию пламени на тяжелых подсвечниках. Конечно, картина эта была не такого крупного значения и масштаба, как предыдущие работы, но она была богата и празднична по колориту, убедительна в своей интимной проникновенности.
Я помню…
Фрагмент четвертый
Каждое воскресенье мы — внуки — ездили к дедушке в «Княжий двор». Мне запомнились широкие коридоры, по которым бесшумно двигались официанты в светло-коричневых фраках, неся высоко над головой подносы с посудой и кушаньем. В таком коридоре разговаривать, казалось, можно было только шепотом. Но зато когда открывалась дверь в дедушкину комнату, мы с шумом, смехом и восклицаниями кидались к нему в объятия. Он раздевал нас, обнимал и целовал в румяные холодные щеки. На столе уже был приготовлен завтрак— в мисочке вареные яйца, колбаса, ветчина, сыр и горячие калачи от Филиппова в огромных пакетах.