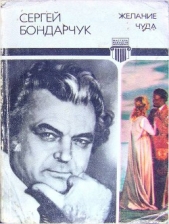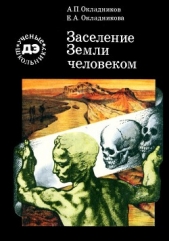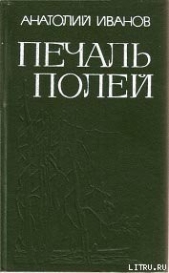Выбор

Выбор читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- Экий собачий хохот! - выругался Лопатин пренебрежительно. Чрезвычайно игриво что-то вы закатили, Эдуард Аркадьевич!
- Я удивлен вашему удивлению, мой милейший Александр Георгиевич! О, мы в силу свой особой морали ежесекундно и ежеминутно режем в особом принципиальном молчании друг другу правду в распахнутые светлые очи. Мы никогда не опускаемся до лжи, до такой безнравственности, чтобы мерзавцу, жулику и дубочку в кресле вслух напомнить, кто есть кто. О, такие выпады признак невоспитанности и совсем уж не признак мужества. Так что же это ложь? Или страшная правда? Мы защищаем себя каждую минуту, а не правду, Александр Георгиевич.
- Правда всегда страшна, - проговорил Илья споткнувшимся голосом, заглушая окончание последнего слова глотком шампанского, и узко усмехнулся Щеглову, с заостренным вниманием глянувшему на него. - Правда, как и память, дается человеку в наказание. Вспоминая плохое, страдаем. Вспоминая хорошее, чувствуем горечь невозвратимого. Иногда мне приходило на ум, что ложь есть правда, а правда - ложь... Что правда необходима для того, чтобы скрыть ложь, Эдуард Аркадьевич, - сказал он и так же неутоленно и жадно, как пил шампанское, закурил сигарету, шумно выпустил ноздрями дым, поближе переставил на подлокотник кресла пепельницу, уже набитую окурками.
Было несомненно, что он нарушил свой режим, которого, по-видимому, долго и прочно держался, и явно чувствовалось, что он пьянел, - лицо становилось все бледнее, жестче, и будто туманным воспоминанием проглядывало в усмешке его что-то давнее, военное, острое, свойственное в ту пору Илье. И Васильев хотел поймать это выражение, понять и вспомнить, с чем оно было связано, и хотел твердо решить, как начать с ним разговор о Виктории, о ее неразумном и нелепом желании, но Эдуард Аркадьевич мешал ему, воспламененный замечанием Ильи, и продолжал без устали чеканить и кидать на стол нашпигованные жгучим перцем формулы:
- Фу, как ужасно вы сказали, Илья Петрович! Вы, как я понял, имели в виду ту... зазаборную ложь и правду! Уверяю вас, что наша мораль - удар по лжи, которая пышным цветом расцветает только за забором! Там она! Чужая правда - это сорняк! Или же - пух поросячий! Бильярдный парадокс! Сапоги в простокваше!
- Это вы в мой огород булыжник зашвырнули? - поинтересовался Лопатин. Валяйте дальше!
- В ваш и в свой, Александр Георгиевич. В общий!
И Щеглов сел на место, сдернул очки, заморгал безресничными веками и начал визгливо покряхтывать, постанывать смехом, слегка тряся черной бабочкой на туго сжатой воротничком еще крепкой стариковской шее (так он смеялся, вернее - не умел смеяться) и, чистоплотно протирая очки кончиком носового платка, вновь молниеносно и жарко возбудился, заговорил не без колючего вдохновения:
- А мировая история человечества - что это? Жизнеописание Адама и Евы в раю? Увы! Это кровь, пот, несчастья, преступления, сплошной кошмар! Как ее назвать - поиск правды? Несомненно и без-условно! Иисус Христос был всего-навсего распятый проповедник, но... стал сыном божьим, потому что его страданиями люди хотели утвердить правду, прийти к любви. Утвердили? Крестовыми походами? Инквизицией? Так где же, где эдемская благость? Ась? Нет, вся прошлая история Европы - история безумия! Вся нынешняя машинная цивилизация - история безнравственных ученых, водородных бомб, убийств, национализма! Ради истины внесу поправку! История человека должна быть биографией правды, а не сюжетом красивой и доступной дамочки, которая на деньги любовника наряжается по его вкусу то в одно, то в другое платье! Здесь я согласен с вами, милейший Александр Георгиевич! Только здесь, мой друг! - Он изящно бросил очки на переносицу, выразительно нацелился выпуклым испытующим взором на Лопатина и вторично залился неумелым брызгающим смешком: - Ее, матушку-правду, можно не только повенчать с ложью, но и стибрить, то есть украсть, облить помоями или прогнать в три шеи. Как вы это назовете? Порочный брак с гордой девой?
- Вот соображаю, как можно назвать ваш трактат о правде, Эдуард Аркадьевич! - проговорил Лопатин тоном невинной рассудительности. Позвольте вас обидеть невзначай? Выдержите?
- Чудесно! За что же? А ну-ка, ну-ка!.. Как вы желаете меня обидеть, коли я ни бельмеса не соображаю в повсеместной посадке кукурузы? Как назвать хотите?
- Унылая философия осеннего листа. Нудеж, плач, стон, причитания и скулеж. Пессимизм - нехитрая штука.
- Я оптимист, родной мой. Именно я люблю все человеческое. Пессимизм это ползание на четвереньках, а я с детства мечтал расти в высоту, как дерево, не боясь молнии.
- Какие молнии, когда осенний ветер срывает листья. И темнеет в четыре часа. Записки ноября.
- Да, да, это грустное зрелище.
И Эдуард Аркадьевич, ценя слово, ничем не проявляя обиды, в переизбыточной бодрости задвигался всей своей сухонькой деятельной фигурой, приветствуя полемическую формулу оппонента.
- Осеннего листа записки! Чудесно! Эт-то что же, что же, Александр Георгиевич, вы преклонный возраст мой имеете в виду? Или же вливаете яд в мой кубок, готовый чокнуться с вашим?
- Нисколько. На кой леший! - грубовато отмахнулся Лопатин. - Хочу сказать, что горький вкус осеннего листа под ваш развеселый аккомпанементик вызывает у меня кручение в животе. Выть на луну хочется и бежать до ветру. Вы все мировыми категориями по башке оглоушиваете, все вселенскими масштабами. А вот скажите, Эдуард Аркадьевич, златоустый Сократ двадцатого столетия, скажите, как вы-то сами в бытие правду-матку утверждаете в наши-то либеральнейшие времена? В своем краю родных берез... Хоть мизинчиком пошевелили?
- Во-первых, милейший Александр Георгиевич, я не карманный максималист, - Эдуард Аркадьевич привскочил, шаркнул ножкой и с язвительной учтивостью поклонился Лопатину. - Во-вторых, неужели вы не видите, что она, матушка, становится такой ветреной, что сил нет! - продолжал он неутомимо. Не задумывались ли вы, что она, дева-страдалица, в грошовые детективы и пошлости по телевизору сбежала. В футбол, в полированную мебель, в ювелирные магазины, сиротинушка, удрала. Ее, матушку родимую, хватательный инстинкт с ног сшибат и в грязи вываливат, по-сибирски говоря. Подойдите, родной Александр Георгиевич, душевно прошу, к очереди у ювелирного магазина и абсолютно серьезно произнесите приблизительно такие диогеновские речи: "Братья и сестры, уважаемые граждане, да неужели смысл вашей жизни в этом желтом металле! Никого из вас он не сделает ни красивее, ни счастливее, а уж бессмертия никак не принесет. Красота - в подаренной вам жизни, в том, что вы дышите, видите солнце, работаете, ходите по земле. Разойдитесь по домам, подумайте о том, что не для этой очереди вы родились. Золото - не хлеб, не вода. Что вам даст лишнее колечко или медальончик?" Какова, вы думаете, будет реакция, милый Александр Георгиевич? Первое: если вы прилично одеты, да к тому же на манжетах вот такие вот, как у меня, буржуазные украшения, купленные еще в тридцатые годы, - Щеглов артистично тряхнул манжетами и, посмеявшись, повертел кистями, демонстрируя запонки, - то на вас, вне всякого сомнения, заорут так: "Ишь ты, высунулась харя в шляпе, сам чемоданы золота имеет, а нам, выходит, не надо!" А если уж на вас помятое пальтишко, то подадут голоса таким манером: "Из психички, видать, бежал! Держи его! Милиция! Где милиция? Перекусает еще всех! Его куда следует отправить надо!" Третьи, не обращая внимания на вашу шляпу, полезут с вытаращенными глазами, попрут мощной грудью на вас: "А ну, проваливай, пока это самое... чего порядок нарушаешь? Без очереди впереться хочешь, такой-сякой!" Подобную сценку, не для пьесы нарисованную, несколько лет назад вообразить себе было трудновато. Что-то произошло, от нас с вами не зависящее. Мировой микроб потребления, как грипп, перенесся к нам. Но там, за бугром, от соблазна, от рекламы, от пресыщенности, наконец, а у нас от чего? От нехваток? А когда начинается погоня за вещичками, в головках многих духовная образуется пустынька, и две госпожи - истина и мораль - уже редко приглашаются сюда в гости. - Щеглов пальцем постучал себе в темечко. - Зачем они? В гардероб не повесишь на плечиках! Лучше уж сервизы в сервантах да хрустальные вазы - до слез престижно! А зонтики, плащики, чулочки, люстры - а? Умилительно! С кем бороться, родной Александр Георгиевич? С самим собою? Мысленным взором окидываю себя: я весь в вещах, на мне отечественные только носочки и еще кое-что. Бороться с микробами, против которых нет вакцины? Это начало духовной трагедии, мой дорогой Александр Георгиевич! Не сомневаюсь, что вы станете красноречиво защищать честь мундира. Но эта истина не имеет определенного места жительства! Она не прописана нигде! Она без паспорта! повысил тонкий насмешливый голос Эдуард Аркадьевич и в беспристрастной послушности, уважительно склонив голову, посмотрел выпуклыми глазами в конец стола на молчавшего Илью, продолжал не без веселой жестокости: - Я не сомневаюсь ни на йоту, что сумасшедшее человечество утратило высший смысл своего существования и заблудилось... Или уж наполовину заблудилось в бетонных лабиринтах больных и перенаселенных городов!.. И я не уверен, что завтра его найдут и спасут. Кто найдет? Кто спасет? Другие миры? Обитатели летающих тарелок? Инопланетяне? Да, возможно, что они обращают на нас внимания не больше, чем мы на муравьев. Найдет и спасет ли себя само человечество? Оно дискредитировало себя... Оно должно очиститься, Александр Георгиевич. Но - как?