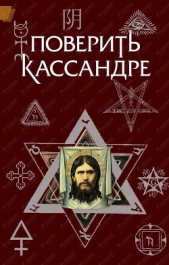Между двух революций. Книга 3

Между двух революций. Книга 3 читать книгу онлайн
«Между двух революций» — третья книга мемуарно-автобиографической трилогии Андрея Белого. Перед читателем проходят «силуэты» множества лиц, с которыми писатель встречался в Москве и Петербурге, в Мюнхене и Париже в 1905–1912 годах. Интересны зарисовки Блока и Брюсова, Чулкова и Ремизова, Серова, Жана Жореса, Коммиссаржевской и многих других.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Помнится мне встреча со Скрябиным у Морозовой в присутствии Метнера; 45 Скрябина Морозова мне всегда подносила; и, кажется, многое обо мне говорила ему; но, кажется, мы в те годы не слишком нуждались друг в друге (Скрябин пришел позднее ведь к необходимости пропустить сквозь себя символистов); из нарочно подстроенной встречи не многое вышло, судя по тому, с какой утрированной вежливостью поворачивала ко мне бледная фигурочка Скрябина свой расчесанный и пушистый гусарский ус, доминировавший над небольшою светловатой бородкой, в то время как тонкие пальчики бледной ручонки брали в воздухе эн-аккорды какие-то, аккомпанируя разговору; мизинчиком бралась нота «Кант»; средний палец захватывал тему «культура»; и вдруг — хоп — прыжок указательного через ряд клавишей на клавиш: Блаватская! Четвертую ноту не воспринимало уже ухо; воспринимались: встряс хохолка волос и очаровательная улыбка с движением руки от меня, через Морозову, Метнера к сидевшему вместе с нами ехиднейшему когеньянцу, Б. А. Фохту, — с игривым:
— «Не правда ли?»
Фохт рассматривал маленького «маркизика» с пристальным восхищением из… бешенства; но запевал он лукавым и бархатным тенором:
— «Оно, коне-е-е-чно… Блава-а-а-тская… любопытна!.. Не мне судить! Кант, смею вас уверить, Александр Николаевич, это немного — не та-а-а-к-с!..»
На что Скрябин с жестом, пленяющим нас, поворачивал голову к Татьяне Федоровне (жене), молча евшей глазами нас; и, смеясь, соглашался:
— «Не смею спорить».
Но оставлял в нас уверенность, что про себя он думал иначе. И было что-то веселое в торжественной светскости, в его задорной бородке и пышных усах: волосы — редковатые; сюртук сжимал тонкую талию; лицо чуть дергалось; Морозова прыскала лукаво глазами на него; Метнер весело покашивался на меня; и у самого Скрябина в глазах таилась лукавость: каждый про каждого знал многое из того, что не есть предмет «светского» разговора; и было ясно, что к личностям друг друга мы относились с симпатией; но — что нам друг с другом делать?
В заключение Скрябина попросили играть; он сел за рояль; гибко откинулся; поставил вверх выпяченные усы; взвесил в воздухе ручку, ею повращал; и разрезвился на клавишах, откинувшись еще более; впечатление от игры его — скорей впечатление изящнейшей легкости, чем глубины; признаться: я более любил Скрябина в исполнении Веры Ивановны, его первой жены, которую в этой же комнате я столько раз слушал.
На прощание с пленяющей светскостью Александр Николаевич звал его посетить; остановился он, кажется, рядом: у Кусевицких; и я искренно обещал скоро зайти к нему; но эта искренность, вспыхнувши, тут же погасла. Ни разу не поднялось во мне: надо бы пойти к Скрябину.
Мы весело с Метнером возвращались домой; падал снежок; Метнер в шубе с перетянутой талией, пышным воротником, такой моложавый в ту ночь, искренно веселился, размахивал палкой и оглашал ночной переулочек хохотом, воспроизводя вечер в лицах; и он напомнил мне того «легкого» Метнера, который в этих же переулочках мне показывал на зарю — в год выхода «Симфонии»: теперь в качестве «зари» между нами он обещал мне издательство; через год телеграмма из-за границы оповестила меня: издательство — есть: казалось, — заря разгорится; а она угасала: в издательстве!
В двух смежных главках даю я характеристику двух тогдашних редакторов своих: Брюсова, Метнера; Метнер-редактор пленял меня дружбою; о Брюсове говорили, что как редактор он черств; но будущее показало: в деталях работы он менее стеснял меня, чем пленительный в личном общении друг, Эмилий Метнер.
Точка перевала
Хождение к Метнеру и Гершензону, культ Брюсова и игра в философию — не угашали во мне моей боли; между душевной периферией и центром, где звучал еще «Реквием», где из зеленого зеркала свешивался надо мною двойник, — росла трещина.
Если 1908 год был мне впадиной, отделяющей семилетие спуска от семилетья подъема, то в декабре 1908 года я пережил нечто подобное шоку.
Декабрь: или — впечатление от последней попытки поддержать Мережковского, приехавшего в Москву; она была для меня скандалом на докладе Философова в Литературном кружке; и — криком на Е. Н. Трубецкого (на лекции Мережковского); 46 «долг», или — личная благодарность за участие, проявленное Мережковским во время моей болезни в Париже, — наткнулся на столь сильное отчуждение от всей линии Мережковского, что вслед за его отъездом я пишу ему письмо о моем отходе от него; он — молчит; 47 и это знак, что семилетие отношений с ним выдохлось; 6 или 7 декабря 1901 года впервые я встретился в Москве [Зигфрид освободил Брунгильду, убив стерегущего ее дракона; Брунгильда в символике Метнера — будущая культура России] с ним; через семь, лет в эти же числа письмо мое поставило точку на отношениях (мы позднее встречались, но внешне).
Но и с «Весами» в этот же месяц — неблагополучно: становится ясным: базироваться на «Скорпионе» — нельзя (ссора Брюсова с Поляковым, попытка Брюсова издавать «Весы», нечеткость его в отношении к сотрудникам, примирение Брюсова с Поляковым и решение сохранить «Весы» лишь на год) 48. Существование «Весов» с этих пор — агония, осложняемая борьбой «партии» Брюсова (Эллиса, Соловьева) с моей (таковая, к моему изумлению, появилась в лице Полякова и Балтрушайтиса); Соловьев и Эллис с хохотом относились к пертурбации в «весовской» политике; а — факт фактом: я уже кое в чем расходился с ближайшими; и главное: не по дням, а часам меркла для всех нас и удалялась близкая вчера фигура Валерия Брюсова, — в направлении к чужой «Русской мысли». Корни разброда группы «Весов» — в том же декабре 1908 года; скоро первая тень легла между мною, Эллисом, Соловьевым. Напомню: встреча с Брюсовым опять-таки — декабрь 1901 года; а начало кружка «аргонавтов», которого инспиратор — Эллис, 1902 год; с Эллисом я познакомился в ноябре 1901 года.
Все вместе взятое переживалось как горечь — в декабре; дочерчивалось мое одиночество; я стоял, вперяясь в свою химеру, на пустом островке, до которого не долетали отклики из недавнего прошлого. Какие социальные явления способствовали химере? Разоблачение Азефа, Пуцято, огарочный взвизг, крепнущий над Москвой из месяца в месяц; на носу был уже новый скандал в кружке, чуть не кончившийся всеобщим побоищем 49, из которого я был выхвачен, увезен домой и отправлен в глушь Тверской губернии 50, в угрюмый дом, спрятанный в сосновом парке, с совами и филинами, с фундаментальнейшей библиотекой; здесь я провел более месяца в сплошном одиночестве над решением вопроса, как же мне жить и быть; и внешнее оформление моей немоты: мне прислуживал глухонемой, косматый старик, объяснявшийся знаками, так что неделями не слышал я звука собственного голоса.
Скандал в «Кружке» случился уже в начале января; а за ним, летом, — новый удар: Эллиса объявили вором на всю Россию с единственной целью: свести счеты с «Весами»; 51 одновременно объявили плагиаторами Ремизова и Бальмонта 52; Яблоновские кричали о нас: «Они все таковы!» Все это оказывалось тотчас чистейшим вздором; суть не в этом, а в действии на сознание; кто-то, передо мною являясь в маске — то капиталиста, а то Азефа, — грозил: «Я гублю без возврата»; а когда исчезал, — торчали тюремные стены, о которые оставалось разбить себе череп.
Соедините горечь предыдущего трехлетия, неприятности в декабре и предчувствие новых, которым конца не предвиделось, и спрессуйте сумму эффектов их в переживания нескольких дней, и вы получите картину моего душевного состояния между 20 и 25 декабрем 1908 года; я почти заболел физически и душевно; к этому присоединился бронхит, для излечения которого явился меня знавший ребенком профессор Усов, — тот самый, с которым пережили мы ночное сидение у трупа покойной О. М. Соловьевой (в ночь самоубийства ее); постукивая стетоскопом, он фыркал: