Бывшее и несбывшееся
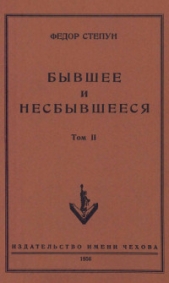
Бывшее и несбывшееся читать книгу онлайн
«Бывшее и несбывшееся» — мемуары выдающегося русского философа Федора Степуна, посвященные Серебряному Веку и трагедии 17-го года. По блистательности стиля и широте охвата их сравнивают с мемуарами Герцена и Ходасевича, а их философская глубина отвечает духу религиозного Ренессанса начала XX века и его продолжателям в эмиграции. Помимо собственно биографии Степуна читатель на страницах «Бывшего и несбывшегося» прикоснется к непередаваемо живому образу предреволюционного и революционного времени, к ключевым фигурам русского Ренессанса начала XX века, к военной действительности. Второй том полностью посвящен 17-му году: Степун был непосредственным участником тех событий. Артиллерийским прапорщиком он с фронта попадает в гущу тогдашней политики, становится начальником политуправления армии при Временном правительстве. Последние страницы мемуаров Степуна посвящены попыткам строить нормальную жизнь в новых советских условиях: театр в голодной Москве, сельскохозяйственная коммуна... Однако большевики изгонят Степуна из России. Степун предваряет свои мемуары следующими словами: «"Бывшее и несбывшееся" не только воспоминания, не только рассказ о бывшем, пережитом, но и раздумье о том, что «зачалось и быть могло, но стать не возмогло», раздумье о несбывшемся. Эта философская, в широком смысле слова даже научная сторона моей книги, представляется мне не менее важной, чем повествовательная. Я писал и как беллетрист, не чуждый лирического волнения, и как философ, как социолог и даже как политик, не замечая вполне естественных для меня переходов из одной области в другую. Близкий по своим философским взглядам славянофильски-Соловьевскому учению о положительном всеединстве, как о высшем предмете познания, я попытался подойти к нему в методе положительного всеединства всех методов познания. Врагами моей работы, с которыми я сознательно боролся, были: идеологическая узость, публицистическая заносчивость и эстетически-аморфное приблизительное писательство. [...] В противоположность туманно трепетным воспоминаниям, светлая память чтит и любит в прошлом не то, что в нем было и умерло, а лишь то бессмертное вечное, что не сбылось, не ожило: его завещание грядущим дням и поколениям. В противоположность воспоминаниям, память со временем не спорит; она не тоскует о его безвозвратно ушедшем счастье, так как она несет его непреходящую правду в себе. Воспоминания — это романтика, лирика. Память же, анамнезис Платона и вечная память панихиды, это, говоря философским языком, онтология, а религиозно-церковным — литургия».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Быть может, в еще большей степени, чем недостающие ему черты, помешали Львову в его политической деятельности свойственные ему особенности характера и миросозерцания: его славянофильское народолюбие, толстовское непротивленчество и несколько анархическое понимание свободы: «свобода, пусть в тебе отчаятся иные, я никогда в тебе не усомнюсь».
Ослепленный своею верою в мудрость русского народа, Львов поначалу прекраснодушно принимал разрушительную стихию революции за подъем народного творчества и делал одну ошибку за другой.
Моя характеристика первого министра–председателя Временного правительства не обвинение его. Обвинять Львова было бы уже потому неуместно, что, не в пример многим другим, он до самого своего конца во всем винил главным образом себя: «Ведь это я сделал революцию, я убил царя и всех… все я»… говорил он в Париже другу своего детства Екатерине Михайловне Лопатиной–Ельцовой.
Быть может, таким острым ощущением своей вины перед Родиной объясняется и отношение Львова не только к Советской России, но и к ее деятелям. Типично эмигрантской ненависти ко всему советскому у него не было. В то время, как многие политические эмигранты отказывались встречаться с советскими служащими, Львов уже в 1923–м году написал Льву Александровичу Тарасевичу, приехавшему из Москвы в Париж в качестве заместителя Наркомздрава Семашки, следующее письмо:
«Мне хочется сказать вам, как я поистине счастлив был почувствовать в беседе с вами веяние того свежего, росного утра родной земли, которое обещает погожий, радостный рабочий день. За пять лет невольного эмигрантства довелось мне вздохнуть родным, свежим воздухом.
Когда заговоришь здесь о родине, то услышишь одни закостенелые слова о «них», тогда как дело не в «них», а в «ней». Здесь головы и сердца заполнены не «ею», а только самими собою.
Веялка времени отнесла их далеко назад, из озадков не попадешь в посев. Они чувствуют, знают это — и рост новой жизни им понятен поэтому только со стороны утраты в ней места.
Меня душит эта пыльная мякина, а вы, как лопатой, подбросили ее на ветер и мне стало легче.
Вы дали почувствовать личным своим настроением, которое дается только одухотворенною, живою работой, что воистину недаром, не всуе веруешь. Вот уж пробивается, растет. Спасибо вам».
Изумительные строки: редкие по силе любви к родине, по душевной красоте, по беззлобию, но, конечно, недальновидные: о каком радостном, погожем дне можно было говорить, хотя бы и в сравнительно благополучном 1923–м году.
В один из следующих дней мы уже с раннего утра приехали в Таврический. Предстояло разрешение самой трудной задачи: поимки вездесущего и всюду отсутствующего товарища Керенского. Половина нашей делегации дежурила на думской стороне дворца, другая — на советской. От нетерпения мы поочередно бегали в «советский» буфет, где было тесно, душно, накурено, но где всех, если не изменяет память, задаром кормили щами и огромными бутербродами. Еды было много, посуды мало, а услужения никакого.
После долгих часов взволнованного ожидания и непрерывного заглядывания во всевозможные фракционные и комиссионные заседания, нам удалось атаковать Керенского не то в коридоре, не то в какой–то проходной комнате, через которую он несся со своею свитою, явно боясь как бы его не остановили и не задержали.
Решительно подойдя к нему, я назвал себя, напомнил о нашей встрече у Я. Л. Сакера и попросил назначить день и час для приема нашей делегации. Поручив кому–то сговориться со мною, Керенский, невольно оберегая висевшую на черной перевязи руку и всем телом подаваясь вперед, заспешил дальше. Ему, очевидно, было очень некогда.
В комнате, куда нас на следующий день ввели, было довольно много народу, все больше солдаты вперемежку с офицерами. Очевидно к назначенному нам часу был приурочен прием и других делегаций. Так оно выходило экономнее в смысле времени и убедительнее в смысле впечатления.
Керенский с такою быстротою вошел в комнату, что показалось он вбежал в нее. Одет он был в темную тужурку, рука по–прежнему покоилась в широкой черной повязке. Так как русская революция еще не знала весьма удобного для приветствования масс поднятия руки, то Керенскому пришлось обойти всех собравшихся и каждому пожать руку. Как некогда на рауте «Северных записок», он протягивал руку с близоруким прищуром и пожимал с приветливою улыбкой. Его похудевшее, пергаментное лицо было крайне оживлено, почти вдохновенно. Казалось, он вбежал к нам после ответственного выступления, волнение которого еще не отхлынуло от сердца. Новым в Керенском показалось мне некая военизация всего его образа, очевидно, дань революционной эпохе и его роли в ней.
По окончании речей председателей армейских делегаций, заговорил сам Керенский, громко и твердо, характерно разрывая и скандируя слоги слов. В его речи были стремительность и подъем. Он говорил, как власть имущий, патетически подчеркивая общенародный, миротворческий и демократический характер «великой русской революции». Было ясно, что Керенскому, как единственному среди членов Временного правительства кровному сыну революции (на Гучкове, Львове и Милюкове явно лежала печать адаптации), придется рано или поздно встать во главе ее. В ее центре он уже стоял, соединяя в своем лице власть министра Временного правительства со званием товарища председателя Совета рабочих и солдатских депутатов.
Выступлением Керенского я лично остался вполне удовлетворен. Булюбаша и Звездича речь министра юстиции не оттолкнула, Иванова и даже Макарова очаровала — большего ожидать было нельзя.
В военную секцию Совета я собирался в большом волнении, боялся что оглашение нашего письменного протеста против приказа № 1–й будет на том основании отведено, что уже четвертого марта в Петрограде, за подписями Керенского и Чхеидзе было расклеено заявление, что приказ № 1–й не исходит от Совета рабочих и солдатских депутатов. Положение осложнялось еще тем, что злосчастный приказ, предлагавший солдатам подчиняться только Совету и вводивший в армию принцип выборного начальства, относился по своему точному смыслу исключительно к петроградскому гарнизону и фронтовых частей не касался. Особая трудность заключалась, наконец, в том, что никто из нас достоверно не знал, откуда появился приказ № 1–й, что, к слову сказать, в точности не выяснено и до сих пор. Милюков связывает появление приказа с происками швейцарского социал–демократа Гримма, уличенного впоследствии в сношениях с германским правительством, а Суханов считает его стихийным проявлением народно–революционного творчества. Боясь не одолеть всех этих трудностей, я решил начать с приказа № 1–й, но как можно быстрее перейти к вопросу принципиального отношения Совета к фронту и миру. Будучи лично с самого начала уверенным, что благополучная ликвидация революционного развала России возможна только на основе быстрого заключения, если и не почетного, то все же приличного мира, я этого своего положения по тактическим соображениям высказывать не мог. Как фронтовик, я во всех своих выступлениях упорно отстаивал положение, что сохранение боеспособности армии одинаково необходимо как для продолжения войны, так и для заключения мира. Эту линию я решил вести и в Совете. Она не раздражала солдат, жаждавших замирения и не оскорбляла той части офицерства, которая мечтала о победоносном окончании войны.
Делегатов, которых в сравнительно небольшой комнате набилось довольно много, принимал постоянно одетый в торжественный черный сюртук И. Д. Соколов, большевик, но убежденный оборонец. За свою упорную и, надо сказать, мужественную проповедь продолжения войны, он был несколько месяцев спустя жестоко избит на фронте не желавшими идти в наступление солдатами. Вернулся он с белой повязкой на голове и в таком виде долго ходил по Таврическому, «напоминая своим видом правоверного из Мекки».
Человек благородный и как будто бы не глупый, Соколов, как правильно отмечает в своих «Воспоминаниях» Станкевич, как–то странно не попадал в такт и тон событий. Этою психологически–политическою тугоухостью объясняется и то, что наше объяснение с Соколовым приняло довольно резкий характер. Не чувствуя духа фронта и не учитывая, что его архибуржуазный вид и адвокатский апломб подрывают его авторитет у солдат, он говорил с нами уж очень по–штатски, грубо вбивая клин классовой ненависти между господами офицерами и нижними чинами.


























