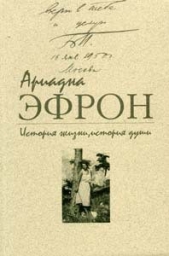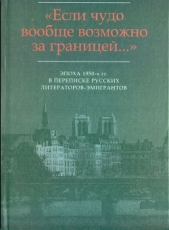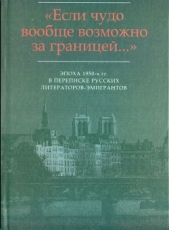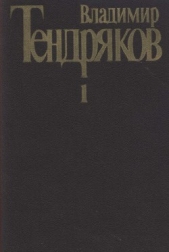История жизни, история души. Том 2
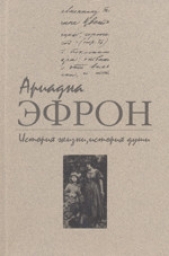
История жизни, история души. Том 2 читать книгу онлайн
Трехтомник наиболее полно представляет эпистолярное и литературное наследие Ариадны Сергеевны Эфрон: письма, воспоминания, прозу, устные рассказы, стихотворения и стихотворные переводы. Издание иллюстрировано фотографиями и авторскими работами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Книгу Maugras1 читала и я, только по-фр<анцузски>, и отчасти по ней и строила комментарии к Лозену; она мне показалась объективной; витамин, к<оторо>го так недостаёт нынче искусству, и не только...
Простите за беглость и несуразность - как всегда спешу. Крепко обнимаю Вас, дорогой Павлик!
Ваша Аля
P.S. Получила недавно весточку от Орлова - с берегов Чудского озера, где ему — им обоим — хорошо и вольно. Дай Бог!
1 Maugras Gaston. Le due de Lauzin et la cour de Marie-Antoinette (герцог Лозэн и двор Марии-Антуанетты). Книга несколько раз переиздавалась и переводилась на английский язык.
Е.Я. Эфрон и З.М. Ширкевич
7 августа 1967
Дорогие Лиленька и Зинуша, эту записочку отправит в Москве Аня, которая приехала вслед за друзьями из Парижа, так что наша гостиница работает без перерыва, и мы, обслуживающий персонал, тоже... Устала от парижан без памяти — не столько от них самих, сколько от груза прошедших лет и ушедших людей, груза, который надо было поднять в считанные дни и часы, между хозяйственными заботами и прочими будничностями и ежедневностями. Трудным оказалось и многое другое, в частности, как ни парадоксально, то, что он оказался таким хорошим, более того — прекрасным, высокого строя человеком; это заставило ещё раз понять и почувствовать непоправимое бедствие: истребление целого поколения таких людей — стойких, верных, мужественных и добрых. Ну, обо всём этом при встрече, всего не напишешь, да и времени, как всегда, в обрез!
Погода — ничего себе: ни одного обложного дождя, и после дождя — солнце. И прохладнее стало. Лето спешит к концу, а я его — лето — и не начала ещё «распробывать»; боюсь, что таки не распробую. <...>
В садике нашем цветут георгины и гладиолусы, табак и левкои, и одна из трёх уцелевших роз никак не хочет угомониться — цветёт себе и цветёт...
В 20-х числах авг<уста>, вероятно, буду по делам в Москве, тогда приеду, но ближе к делу, конечно, напишу; а пока ничего ещё толком не соображаю и голова кругом...
Крепко обнимаем и целуем!
Ваши А., А. и А.
П.Г. Антокольскому
18 августа 1967
Дорогой мой Павлик, статья сконцентрировалась, распрямилась, расправилась и стала гораздо ближе к М<арине> Ц<ветаевой>, чем была: она (т. е. МЦ) не терпит туманностей, вернее - расплывчатости (к<отор>ая была в отдельных местах статьи) — приблизительностей, требует точности, сжатости и высокого роста. И, конечно же, -любви. Любовь была и в первоначальном варианте статьи, но недостаточно отточенная, вдруг гаснувшая за отсутствием формулы; всё было несколько saccade*; недоставало глубокого и ровного дыхания, поэтому не давался подъём. Сейчас дался. Вычерки оправданы, вставки хороши - и слава Богу и дай Бог! Я очень рада.
 |
| К. Б. Родзевич. 1967. (Публикуется впервые) |
Была у меня поразительная, трогательная (мало!) - встреча с героем маминых поэм «Горы» и «Конца». Он приезжал на неск<олько> дней из Франции -попрощаться с Россией и со мной — последней из семьи. Приехал, чтобы сказать мне, что после гибели моих родителей всю жизнь старался жить и действовать так, чтобы быть достойным их. (Он был большим другом моего отца.) Я встретилась и расцеловалась с человеком оттуда - из того поколения, в которое я влюблена - слишком поздно, как всё в жизни - сначала слишком рано, а потом слишком поздно - поколения, которому кланяюсь земно и не устаю благодарить судьбу, что довелось пожить в их сени, быть ими осенённой. Ах, и высокое же было поколение, Павлик! Мне до такой степени есть на что и на кого оглядываться, что как-то не глядится вперёд. Но это, вероятно, предпенсионное явление...
Как Вам дышится в эту жару? Мне — еле-еле и сердце каверзничает. Очень прошу его подождать. Ведь ничего ещё не сделано, и не столько прожито, сколько вытерплено. Терпение же — привычка не из хороших.
Обнимаю Вас сердечно, Павлик, дорогой. До встречи осенью, надеюсь!
Ваша Аля
Как Вам «Мой Пушкин» (книжечка)?1 Достали ли в Лавке?
1 Цветаева М. Мой Пушкин. М., 1967.
* Прерывистый, неровный (фр.).
зоб
П.Г. Антокольскому
30 августа 1967
Дорогой мой Павлик, рада, что книжечку («Мой Пушкин») Вы достали, и очень жалею, что не смогла подарить Вам её: получили с Аней так мало экземпляров, что вместо радости (нашей и иже с нами) - сплошные обиды и огорчения. А с книжечкой переводов1 и того хуже будет - тираж всего 10 тыс<яч> - три четверти к<отор>ых пойдёт, как водится, за границу, на валюту. «Вскладчину» с Аней послали одного «Пушкина» Орлову (его вступительная статья мне понравилась, в ней меньше оглядок в сторону богомольной старой дуры2, чем могло бы быть). У меня есть несколько книжных иждивенцев, прекрасных людей, обстоятельствами вколоченных по самую маковку в глубокую провинцию, куда не доходят и крохи крохотных цветаевских тиражей - и вот для них - ни разъединого «Моего Пушкина». Это во мне ноет, как зубная боль. И надоедает всё уговаривать себя -мол, тем не менее однако, «все-таки» хорошо, что книжечка вышла. Вообще пропорции мёда и дегтя жизненных - опасно смещаются в моём предпенсионном сознании — я становлюсь занудой и боюсь, что это — процесс необратимый. Вот и лето красное проныла и провоз-мущалась, а оно и пролетело, и уже яблоки бухаются с яблонь, и редеет листва, обнажая мускулатуру деревьев и являя тревожные дали, и вороны галдят вечерами, и по утрам — туман и паутины в грушевидных каплях, и сошли огурцы, и мухи кусаются, и пора складывать в чемодан ненадёванные сарафаны. И всё это вместе взятое называется жизнь — как говорил Киршон 116, вскоре с нею расставшийся.
Я всё никак не одолею Верлена, он мне не дался, я так и не нашла к нему того синтезирующего ключа, без которого не отомкнёшь перевода. Всё у меня осталось непреодолённым, слова вяло разбрелись по строчкам и скудно срифмовались; но — не начинать же сначала, как велит совесть, к<отор>ая всегда - вопреки здравому смыслу! Вообще же, чтобы (хотя бы!) переводить, не совесть нужна и отнюдь не здравый смысл, а всего лишь талант — вот в этой-то мелочи и загвоздка!
«Пушкин и Пугачев»4 - одна из моих любимейших маминых вещей - вольная, глубокая, пронзительно-проницательная. В какой жизненной тесноте, глухоте, нищете была она, когда писала с такой свободой! Из какой теснины вырывался (неиссякаемо!) - этот пламень! Чем дальше живу, тем больше растворяюсь в позднем осознании чуда, бок-о-бок с которым жила, непрерывно ударяясь об острые его углы, не понимая, что то были грани, а не углы, грани магического кристалла. Господи, Господи...
Обнимаю Вас, дорогой мой Павлик, обнимаю под раскаты очередной грозы, под топот очередного ливня; пусть всё будет у Вас хорошо, милый житель той дальней и давней страны, откуда и я родом...
Там, где на монетах,
Молодость моя —
Той России нету,
Как и той меня...5
Ваша Аля
' См.: Цветаева М. Просто сердце. Стихи зарубежных поэтов. М., 1967.
2 Строка из сказки Пушкина «Царь Никита и сорок его дочерей»: «Богомольной старой дуре / Нашей чопорной цензуре...».
3 Советский драматург Владимир Михайлович Киршон был расстрелян в 1938 г.
4 Видимо, П.Г. Антокольский поделился с А.С. впечатлением об очерке М. Цветаевой «Пушкин и Пугачев», вошедшем в книгу «Мой Пушкин». 13 августа 1967 г. он записал в своем дневнике: «Только что вышла ее (М. Цветаевой. - Р.В.) книжечка о Пушкине. Таким образом проза Марины постепенно (страшно медленно, опоздав на двадцать лет) входит в наш обиход открыто.