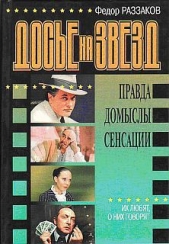Причуды моей памяти

Причуды моей памяти читать книгу онлайн
Новую книгу Даниила Гранина нельзя отнести к какому-либо литературному жанру, в ней он отступил от своей привычной стилистики. Книга-размышление написана в форме кратких заметок, охватывающих промежуток времени от конца 30-х до наших дней.
В этих изящных новеллах автору удалось передать гнетущую атмосферу послевоенных 40-х годов и ее воздействие на человеческие судьбы. Беспощадны его мастерские «штрихи», рисующие современную действительность. Важные серьезные вещи перемежаются заметками из записных книжек об увиденном и услышанном — нелепом, смешном, анекдотичном…
Художественное оформление И.А. Озерова
Иллюстрации В. Мишина и А. Мишиной-Васьковой
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Хрущев на Новодевичьем кладбище — это тоже историческая акция против человека, восставшего на Сталина.
Захоронения в Кремлевской стене — это большой кусок русской истории, как-никак семьдесят с лишним лет!
Когда была советская жизнь, я не чувствовал себя советским человеком, а теперь очень часто чувствую.
— У меня никогда не было врагов, которых я заслуживаю, — сказала мне Ольга Федоровна Берггольц, — все какие-то шавки.
Маркиз де Кюстин советовал всем французским юношам поехать в Россию и раз и навсегда избавиться от недовольства своей страной. Сомнительный совет. Юноши русские, которых Петр отправлял за границу, как правило, возвращались. Французские аристократы после Великой революции охотно эмигрировали в Россию, многие приживались у нас. В наше время иностранные журналисты, студенты, побывав в России, стараются вернуться сюда. Плохой быт, плохие порядки, а что-то есть такое, чего нет на Западе.
Так получилось, что рассказ Исаака Бабеля «Соль» я читал три раза в самые разные эпохи. Три чтения. Три эпохи. Всякий раз рассказ становился другим. Неузнаваемо другим. Что-то с ним происходило. Он как бы окрашивался в другой цвет. Со всеми хорошими рассказами такое происходит. Они меняются. У них меняется интонация, голос, вылезают новые подробности. Но тут дело было еще и во мне, через этот рассказ я обнаруживал собственные превращения.
В первый раз, это было до войны, рассказ восхитил меня революционным пафосом, я бы сказал, даже яростью своей романтики. Тогда еще догорала героика Гражданской войны, мы еще верили в ее лозунги, в светловскую «Гренаду», восхищались «Чапаевым», еще читался «Разгром» Фадеева. Среди опустошенной галереи легендарных полководцев сохранился Семен Буденный, разве что чуть смешными стали его воинственные пышные усы. Однако с прежним жаром мы распевали:
Много позже на каком-то приеме познакомился с Буденным. Он оказался таким, как на портретах. Все другие вожди усохли, поседели, облысели, хотя на портретах они оставались неизменными. А этот блистал тщательно окрашенной шевелюрой, и знаменитые его усы оставались черными.
— Как вам удается так хорошо выглядеть, Семен Михайлович? — спросил я. Ему было примерно 88 лет.
Оказывается, он имел простой рецепт — надо с утра сделать прогулку верхом на двадцать километров, потом съесть три лимона и то же повторить перед сном. Рекомендовал он это мне с горделивой радостью изобретателя.
Шел 1971 год. Из всей архаики Гражданской войны уцелел только он, и было немного грустно и смешно. Почему так странно распорядилась судьба двумя самыми знаменитыми представителями «Конармии» — ее командующим и ее трубадуром. Весь цикл бабелевской «Конармии» полнился жаром раскаленной непримиримости к буржуазии, к врагам революции, а враги виделись повсюду. Когда боец Балмашев обнаружил, что женщина, которую он подсадил к себе в вагон, на самом деле вместо ребеночка нянчит мешок соли, запутанный в пеленки, когда он обнаружил этот бесчестный обман, то выкинул ее из вагона, она стала контрреволюционным врагом, взял винтовку и с одобрения братвы «смыл этот позор с лица трудовой земли и республики».
При том своем первом чтении я воспринял сей акт как справедливое возмездие, и чувства бойца Балмашева были убедительны, и мы вместе с Исааком Бабелем разделили его гнев и боль за «несказанную Рассею», «и крестьянские поля без колоса», «и товарищей, которые много ездют на фронт, но мало возвращаются».
Второе чтение произошло в 1971 году после встречи с Семеном Михайловичем Буденным. Я увидел у букиниста «Конармию», изданную в 1927 году, второе издание, купил ее, почему-то меня привлекают книги, изданные при жизни автора.
В рассказе «Соль» бросились мне в глаза слова, какими отвечает солдат революции Никита Балмашев на следующее возражение разоблаченной гражданки:
«Я соли своей решилась, я правды не боюсь. Вы за Расею не думаете, вы жидов Ленина и Троцкого спасаете…».
На что ей Балмашев отвечает так:
— За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются. Между прочим, за Ленина не скажу, но Троцкий есть отчаянный сын тамбовского губернатора и вступился, хотя и другого звания, за трудящийся класс.
Разумеется, вскоре цензура изъяла все упоминания Троцкого, и даже в Избранном (1966 г.) несознательная гражданка стала более сознательной и уже не упоминает ни Ленина, ни Троцкого. Так что для меня этот ее первоначальный ответ был откровением.
То, что вытворяла цензура, новостью не было, они поправляли не только Бабеля, они вмешивались в тексты Белинского, Горького, никакая классика не была для нее святой. Фамилия Троцкий была изъята из всех энциклопедий. «Троцкизм» был, а Троцкого не было, не узнать, кто такой, когда родился, когда умер, так что ничего не мешало ему существовать в виде незаконного сына тамбовского губернатора.
Меня же озадачило другое: насчет Ленина. Солдат революции «между прочим» про Ленина отказывается вступать в дискуссию. Это почему? Как раз в то время печатались скандальные материалы Мариэтты Шагинян — с Лениным-то, оказывается, нечисто, есть у него еврейская кровь, мать его наполовину или более того — еврейка! Солдат революции Мариэтту Шагинян не читал, и Исаака Бабеля не читал, однако оба они уклонились от вызова несознательной гражданки. Похоже, что Бабелю кое-что было известно, как, впрочем, и другим. А вот образ председателя Реввоенсовета Льва Троцкого был окутан легендами, никак не вязался с книгочеями, сочинителями научных трудов, он виделся отчаянным рубакой-командиром на лихом коне, а то на лихом автомобиле, но обязательно с наганом в руке.
И в других рассказах «Конармии» упоминается товарищ Троцкий, и поскольку фактически он был у всех на устах в «Конармии», теперь было странно, как мы не замечали этого изъятия. «Кто знает, как пусто небо на месте упавшей башни» (Анна Ахматова).
Третье прочтение — нынешнее. Ничего не подозревая, я взялся за этот рассказ и поразился жестокой бесчеловечности конармейцев, всей этой братвы, которая с таким удовольствием застрелила женщину — за что? За то, что она не от хорошей жизни тащила мешочек соли, да продать, да добыть денег, чтобы как-то прожить. Беззаконный суд, неправедный, да какой там суд, не суд, а расправа. Революционные понятия, по которым дозволялось преспокойно застрелить любого, кто покажется нарушителем. Он, этот солдат революции, преисполнен уверенности в справедливости, в высшей справедливости возмездия, которое настигает женщину, он осуществил это возмездие, честь и хвала Никите Балмашеву, истинному солдату революции!
Я удивился себе, тому, давнему, который принял этот рассказ, умиляясь наивной чистоте революционного пыла, не увидел в нем чудовищной постыдной вседозволенности, какая нарождалась в советской стране. А ведь все это было заложено в рассказе и почему-то не прочитывалось, а теперь пугающе открылось. Соответствует ли это замыслу Бабеля или нет — гадать бесполезно. Писатель не знает, как будет читаться его вещь в другие времена. Кто бы мог подумать, какой злободневностью наполнится для нас «Хаджи-Мурат» Льва Толстого и печально опустошится «Как закалялась сталь» Николая Островского.
Иногда перечитывая книги, словно читаешь еще и себя самого, нечто вроде дневника, там, в книге, сохранились невидимые записи, отпечатки чувств и состояний, которых уже сам не помнишь, — неужели я был таким и так видел жизнь.
Курица по зернышку, по зернышку — и весь двор засран.