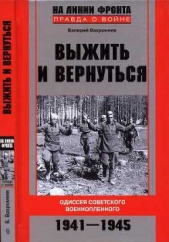Зигзаги судьбы. Из жизни советского военнопленного и советского зэка
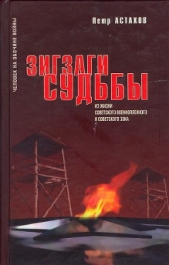
Зигзаги судьбы. Из жизни советского военнопленного и советского зэка читать книгу онлайн
Судьба провела Петра Петровича Астахова поистине уникальным и удивительным маршрутом. Уроженец иранского города Энзели, он провел детство и юность в пестром и многонациональном Баку. Попав резервистом в армию, он испытал настоящий шок от зрелища расстрела своими своего — красноармейца-самострельщика. Уже в мае 1942 года под Харьковом он попал в плен и испытал не меньший шок от расстрела немцами евреев и комиссаров и от предшествовавших расстрелу издевательств над ними. В шталаге Первомайск он записался в «специалисты» и попал в лагеря Восточного министерства Германии Цитенгорст и Вустрау под Берлином, что, безусловно, спасло ему жизнь. В начале 1945 из Рейхенау, что на Боденском озере на юге Германии, он бежит в Швейцарию и становится интернированным лицом. После завершения войны — работал переводчиком в советской репатриационной миссии в Швейцарии и Лихтенштейне. В ноябре 1945 года он репатриировался и сам, а в декабре 1945 — был арестован и примерно через год, после прохождения фильтрации, осужден по статье 58.1б к 5 годам исправительно-трудовых лагерей, а потом, в 1948 году, еще раз — к 15 годам. В феврале 1955 года, после смерти Сталина и уменьшения срока, он был досрочно освобожден со спецпоселения. Вернулся в Баку, а после перестройки вынужден был перебраться в Центральную Россию — в Переславль-Залесский.
Воспоминания Петра Астахова представляют двоякую ценность. Они содержат массу уникальных фактографических сведений и одновременно выводят на ряд вопросов философско-морального плана. Его мемуаристское кредо — повествовать о себе искренне и честно.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В узком коридоре, с правой и левой стороны ряд дверей в одиночки и медленно прохаживающийся охранник высокого роста и атлетического сложения. Одет по-зимнему — в ватник, шапку и валенки. Дежурить здесь, видимо, было холодно, и стражи порядка одевались потеплее.
Мне открыли одну из дверей. Это была небольшая камера с низким потолком, размером два на два. До потолка можно было дотянуться рукой. С левой стороны укрепленная на шарнирах деревянная койка, убирающаяся под ключ на день; в правом углу встроенный треугольник сидения, настолько маленький, что присесть на него можно было только при одном условии — касаться телом одной и другой стены камеры. В углу из оцинкованной жести «параша».
Дежуривший охранник забрал мешок и сказал, чтобы я раздевался. Я снял спецовку, телогрейку и шапку. Остался в белье и валенках — портянки вертухай приказал тоже снять. Я с удовлетворением подумал в эту минуту о наличии валенок. Без них я бы просто «околел». Потом открыл ключом койку, так как была ночь и я мог воспользоваться своим правом «поспать». Но как только закрылась дверь и я почувствовал себя изолированным от внешнего мира, только тогда я понял весь трагизм вынесенного мне наказания.
Слабый свет лампы едва-едва освещал этот каменный мешок. На стенах его сверкали искрящиеся снежинки снега, отчего казалось еще холоднее. И пока во мне сохранись принесенное из общей камеры тепло, я не «клацал» зубами, а мучительно погрузился в этот холодный мешок и нутром своим понимал, что тепло это улетучится через несколько минут.
Ну а дальше?… Ведь холод скует руки-ноги, с помощью можно как-то разогреть тело, и тогда сам превратишься в сосульку… Вот уже и зубы стали отбивать частую дробь. И как я не пытался ее остановить — ничего у меня не получалось. А ведь я не провел здесь и десяти минут, а впереди ожидают еще трое суток. Сколько же это часов, а минут?!
Я начал бегать на месте, но теплее от этого не становилось. Тогда я прибегнул к гимнастике, но и руки не прибавили огня. Впереди остаток ночи, а разве здесь можно делить сутки на день и ночь? Холод сковывает сознание, и рассудок теряет ориентиры. Нужно выжить! Выжить во что бы то ни стало! Я попробовал взобраться на раскрытую койку — она была холодна, как лед и обжигала тело через тонкую ткань нижнего белья. Решил сесть на валенок, подложив под себя ногу. Так было лучше — но где взять тепло? Чем согреть тело? И вдруг осенило!
Я свернулся в комок, вытащил из рукавов рубахи руки, из горловины голову, втянул ее поближе к коленям и стал выдыхать из себя внутреннее тепло, которое в виде пара проходило в окоченевшие члены и тело. Этот единственный источник, как будто, помог ощутить слабый приток теплого воздуха. Но ненадолго. Через какое-то время и он стал тоже мало ощутимым, и тогда я попытался ускорить дыхание…
Говорить о сне в такую минуту бессмысленно. Меняющаяся дрожь — то крупная, как град, то мелкая и частая, как непрекращающийся осенний дождь, — не могла отключить сознание. Я чувствовал свою слабость и беспомощность. Неужто не выдержу и это конец?
Когда в корпусе началось движение — открывание и закрывание дверей — я понял, что моя первая ночь уже позади. Остаются еще две.
Вместе с утром явилась карцерная пайка хлеба и горячая алюминиевая кружка с кипятком, о которой можно было погреть пальцы, ладони и только потом небольшими, неторопливыми глотками пропустить через себя.
Койку вертухай «пристегнул» к стене, отчего «мешок» стал свободнее и можно было «размяться». Однако движения не могли унять дрожь тела и зубов.
Как страждущему в пустыне путнику приходят видения живительного оазиса, так и в моем сознании возникали картины общей камеры, в которой не было ни заиндевевших стен, ни леденящего холода; была постель и трехразовая пища; обязательная, независимая от капризов начальства и погоды, прогулка. В теперешнем моем положении оставленная тюремная камера казалась раем — ведь все познается в сравнении!
Вырулившим меня в те дни союзником — был возраст. Молодой организм боролся с холодом и победил, только несколько дней после этого я еще продолжал испытывать внутреннюю дрожь, но никаких пагубных для здоровья последствий ни тогда, ни после я не приобрел «на память» о Лефортово.
Невольно возникал вопрос: кто же он, невидимый Благодетель, протянувший руку участия, сохранившую мне жизнь?!
В Лефортово я встретил Новый, 1950-й год, год окончания срока наказания. Я уже отсчитывал последние месяцы.
Тогда меня однако настораживало одно серьезное обстоятельство — ведь я был осужден Особым совещанием! По рассказам заключенных часто слышал о неожиданных изменениях приговоров ОСО. Эти слухи воспринимались, как нечто отвлеченно-нереальное, уж больно не хочется верить в худшее, особенно тогда, когда жизненная ситуация и без того сложна, а усложнять ее больше — несправедливо. Так устроен человек.
Поэтому в тюрьмах и лагерях, потерявшие свободу жадно ловят каждое известие (там оно называется «парашей») о готовящейся амнистии, об изменениях, смягчающих уголовный кодекс, об указах, снижающих сроки наказания; о поселениях вместо лагерных зон, о расконвоировании заключенных по тем или иным статьям и т. д. и т. п.
В это хотят верить и верят месяц за месяцем, из года в год, ожидая скорого выхода на свободу и «укорачивая» таким образом срок собственного приговора.
Поэтому слухи о «добавках» и «довесках» срока воспринимают, как нежелательные, не имеющие конкретного отношения к кому-либо.
Однако со мной случилась именно такая беда.
В марте 1950 года, после восьмимесячного заключения в Лефортово, где меня должны были окончательно «сломать» режимными условиями, без ведения следствия и производства допросов я был переведен в Бутырскую тюрьму.
Видимо, иссякли все прокурорские санкции на тюремное содержание, и нужно было «новым» обвинительным материалом подобрать мне более суровую меру наказания. Это надуманное обвинение так же, как и первое, могло попасть на рассмотрение лишь в такую же инстанцию — в ОСО.
И вот оно, это постановление Особого совещания, датированное 21 апреля 1950 года. Мне его предъявили в мае для подписания.
На сей раз меня забрали из камеры днем. Я был доставлен на Бутырский «вокзал». Терпеливо просидел в боксе, не зная чего ожидать, и был, наконец, приведен в ярко освещенную комнату, к свету ламп которой добавился еще и свет полуденного солнца. Сквозь большое с массивной решеткой окно была видна безлюдная территория «привокзального» двора.
В комнате за небольшим столом, более похожим на хозяйственный, чем на служебный, сидел полковник пожилых лет. Перебирая лежащие перед ним документы, он сортировал их по своим соображениям, одному ему известным.
Я услышал опостылевший за эти годы вопрос:
— Фамилия, имя, отчество, год рождения…?
Найдя бумагу, пододвинул ее поближе к краю стола и сказал:
— Ознакомьтесь, пожалуйста!
Я уже заканчивал срок — мне оставалось чуть более полугода до освобождения, и у меня уже не было той тревожной робости, с которой начинались первые шаги в этом мире.
Годы заключения добавили к моему школьному аттестату зрелости еще один необычный «диплом». Правда, дисциплины его относились больше к компетенции органов внутренних дел и Госбезопасности, а сам документ подразумевался лишь в воображении. Но именно поэтому многое теперь воспринималось без особых треволнений и страха.
Несмотря на готовность принять на себя еще новый удар судьбы, этот оказался настолько тяжелым, что я не выдержал. Я, к сожалению, не могу дословно привести текст второго постановления Особого совещания, так как папка дела с грифом «хранить вечно», столь необходимая для этих «Записок», и сегодня еще лежит в архиве Госбезопасности.
Суть нового постановления заключалась в том, что, находясь в Швейцарии, я стал сотрудничать с американской разведкой, получил задание и выехал для его реализации в Советский Союз. Принимая во внимание такого рода враждебную деятельность, Особое совещание решило изменить ранее вынесенную меру наказания на новую — 15 лет исправительно-трудовых работ с учетом уже отбытого первого срока.