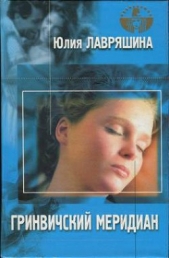Сдача и гибель советского интеллигента, Юрий Олеша

Сдача и гибель советского интеллигента, Юрий Олеша читать книгу онлайн
Написанная со страстью и горечью, пером ярким и острым, книга "Юрий Олеша" показывает драму талантливого советского писателя, сломленного в результате мелких и крупных компромиссов с властью. Но проблема поставлена автором шире - о взаимоотношениях интеллигенции и тоталитарного государства, интеллигенции и революции.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Юрий Олеша хотел так написать.
Он хотел сдаться.
Он хотел, чтобы к нему хорошо относились и чтобы была почва под ногами.
Он устал, и ему все это надоело.
В связи с таким уважительным обстоятельством Юрий Олеша в это время делает не только опечатки.
Он делает другую пьесу под названием "Список благодеяний" , никогда целиком не напечатанную и никогда не поставленную, которая так же мало похожа на "Список благодеяний", напечатанный целиком и поставленный, как мало похоже сотворение мира, лишь в общих чертах намеченное в "Книге Бытия", на тот же процесс, но уже детально разработанный в романе "Сотворение мира" Виталием Закруткиным.
Две сцены первого "Списка благодеяний" были напечатаны в журнале "30 дней"1 за восемь месяцев до появления всей пьесы в журнале "Красная новь"2.
1 "30 дней", 1930, № 12.
2 "Краевая новь", 1931, № 8.
В разночтениях текста есть тоже нечто похожее на опечатку.
В журнале "30 дней" сказано так:
"Л е л я... Теперь я хочу начать жизнь сначала".
А в журнале "Красная новь" так:
"Л е л я... Ведь мне не надо начинать сначала".
По закону опечатки сказано противоположное тому, что получилось, и именно то, что хотелось сказать.
Юрий Олеша хотел так сказать.
Реплика в первом "Списке..." звучит так:
"Л е л я... Я хочу голодать, хочу быть нищей на камне Европы... у себя на родине я была известная... если хотите... знаменитая артистка. Теперь я хочу начать жизнь сначала".
Во втором "Списке..." эта сцена заканчивается иначе:
"Леля... спасибо... я скоро вернусь... я очень горжусь тем, что я артистка страны Советов".
Когда художник перестал думать медленно и вынужден был начать немедленно повторять то, что думают другие, произошло весьма существенное в его жизни обстоятельство: вместо одной пьесы ему пришлось написать другую.
В первой пьесе быстро и обреченно идет женщина, которая без страха обнаруживает, что в ее душе "путаница и ложь".
"Ложь! Мы всегда лжем нашей власти, лжем классу, который правит нами... У нас нет родины... У всех. Нет родины, есть новый мир. Я не знаю, как жить по-человечески в новом мире...
Если революция хочет сравнять все головы - я проклинаю революцию".
В другой пьесе тихо и безнадежно бредет женщина, ведущая "сама с собой мучительный долгий спор, от которого сохнет мозг". Это не разночтения, а противоположения, исключающие одна другую позиции.
Начиная с "Заговора чувств", становится ясно, что Олешу все больше интересует, что получится, если сначала написать так, а потом иначе. Эти опыты давали иногда исключительно ценные результаты.
Несмотря на взаимоисключающие задачи двух текстов, главное намерение автора - покарать, убить свою героиню - в обоих случаях остается неизменным.
Пьеса в варианте "30 дней" была так же противоречива, как и в варианте "Красной нови". Но она не казалась такой чудовищно несправедливой, неправосудность ее приговора не была столь вызывающей, потому что резиньяции и рефлексии героини "Красной нови" еще не залили мятежа и протеста героини "30 дней".
Такое пренебрежение явными преимуществами первого варианта перед вторым Юрий Олеша и люди его литературного окружения настойчиво объясняли дьявольскими происками Вс. Мейер-хольда, на которого, как известно, дьявольски вредно влияла его жена. Это, несомненно, было очень убедительно особенно после того, как Мейерхольда и его жену убили1.
1 Подробности, связанные с тем, как именно обижали Юрия Олешу, мы узнали совсем недавно из литературного портрета, принадлежащего кисти лучшего знатока творчества писателя и его круга Л. Славина. (См.: "Портреты и размышления...").
"Он (Олеша. - А. Б.) быстро подружился с Мейерхольдом... Но у Олеши не было ложных богов" - узнаем мы. Действительно, другие источники также подтверждают, что Олеша очень серьезно относился к людям: у Мейерхольда в это время уже начались неприятности.
"Неохотно, но все же он признался мне, что Мейерхольд дополнил "Список благодеяний" своими поправками, выбрасывал одни эпизоды, перемонтировал другие. (В другом месте Л. Славин пишет еще более решительно: "Пьеса была в дальнейшем искажена. Помню, как жаловался мне Олеша на то, что Мейерхольд портил ему пьесу, выбрасывая одни сцены, перемонтируя другие, чтобы исполнительнице роли Гончаровой, малоодаренной актрисе З. Райх (жене Мейерхольда. - А. Б.) было легче и удобнее играть").
Легко ли было это пережить писателю, который каждое слово вбивал, как устой моста!" - торжественной фанфарой завершает свой хорал Л. Славин.
Все это вызывает восхищение. И будит мысль. Разбуженная мысль начинает искать выхода. Что же происходит? Ведь если Юрий Oлеша был такой замечательный герой, то зачем же он позволял Мейерхольду выбрасывать одни эпизоды, перемонтировать другие?
Разбуженная мысль не в состоянии разрешить этот вопрос. Но она еще в состоянии задавать другие. В частности, она спрашивает: какое отношение Мейерхольд имеет к печатному тексту "Списка благодеяний", о котором и только о котором идет речь? Ведь пьеса была напечатана до того, как Мейерхольд дополнил ее своими поправками. К напечатанному тексту Мейерхольд никакого отношения не имеет. Если даже допустить, что он каким-нибудь таинственным образом (под дьявольским влиянием жены, когда на башне собора св. Франциска пробило двенадцать ударов) без столь необходимой бережности отнесся к рукописному тексту пьесы, то, печатая текст, Юрий Oлеша мог восстановить все то, что Мейерхольд так бесцеремонно испортил. Ничего не выходит: текст, напечатанный Oлешей, это его текст, а не Мейерхольда, и никуда от этого не уйдешь. Не являемся ли мы здесь невольными свидетелями случая, который в другом месте сам Л. Славин так точно и в афористической форме определил как "перекладывание с больной головы на здоровую"?
(При всем этом Вс. Мейерхольд был человеком разнообразным. Он мог многое: быть великим художником, создателем концепции нового театра и автором пошлых статеек и ничтожных речей.)
В возрасте писателя появилась первая роковая цифра... Ему исполнилось тридцать лет...
Ему надоело несерьезное отношение к жизни...
Но этот вопрос еще ждет своего исследования.
Страна переживала трудные дни. Стали встречаться люди, которые, поспешно завершив кое-какие социально-нравственные обязанности, торопясь и захлебываясь, приступили к наслаждению жизнью.
В связи с этим на данном этапе были затребованы пирожные со сливочным кремом, галстуки в голубую клеточку, дворцы культуры из настоящего мрамора, сочные женщины с розовым оттенком, мировые рекорды и глубокое уважение.
В жизни Юрия Олеши также наступил новый период.
Правда, Юрий Oлеша не получил в личное пользование ни пирожных со сливочным кремом, ни дворцов культуры из сплошного мрамора, ни даже сочных женщин с розовым оттенком.
Правда, он недополучил по вышеприведенному списку благодеяний причитающееся не потому, что считал себя недостойным или с презрением отвергал цветы наслаждений, а потому что до него уже все расхватали.
Но зато Юрий Oлеша обрел еще более твердую уверенность в том, что он на пути к сверкающим вершинам.
Новый период в жизни Юрия Олеши ознаменовался медленной, беспробудной и уже ничем не остановимой сдачей.
Сдавшийся человек, согласившийся на измену, боится и не любит своего прошлого. Он начинает расправляться со старыми концепциями, с недавними иллюзиями, со своими героями.
От сдачи, начавшейся так прекрасно, потянуло дымком самосожжения.
Здесь началась новая судьба.
Он не подозревал, что последняя строка "Зависти" была последней независимой, а значит, последней имеющей художественное и общественное значение строкой в его жизни. Он не мог думать о том, что все кончено и что теперь он обреченно и безостановочно все быстрей и быстрей падает вверх к холодной сверкающей ледяной и бесчеловечной, уже различимой в зарозовевшей заре вершине, именуемой "Строгий юноша".