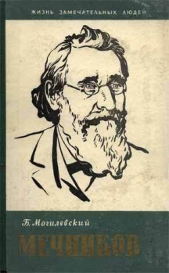Мечников

Мечников читать книгу онлайн
Эта книга о великом русском ученом-дарвинисте второй половины XIX — начала XX века. И. И. Мечников вместе с А. О. Ковалевским основал сравнительную эмбриологию Его фагоцитарная теория иммунитета стала основой учения о борьбе организма с инфекционными болезнями. Мечников внес важный вклад в изучение холеры, брюшного и возвратного тифа, туберкулеза и других заболеваний. И. И. Мечников заложил основы геронтологии — науки о продлении жизни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У принца вновь возникла мысль пригласить директором Илью Ильича. Не желая получить официальный отказ, принц прямо к Мечникову обратиться не решился, а попросил его учеников предварительно разузнать, как бы Илья Ильич отнесся к его идее.
Д. К. Заболотный поспешил сообщить обо всем учителю и настоятельно просил «не отказываться от директорства и принять на себя руководство работами русских микробиологов, которых он объединил бы и в среде которых нашел бы горячую поддержку».
По всей вероятности, Илья Ильич в жизни своей не получал письма, на которое было бы так трудно ответить!
С полной ясностью он ощутил, как сильно его тянет на родину.
Но так же ясно осознал, что давно уже сжег свои корабли…
И еще он вдруг понял то, в чем избегал себе самому признаться. Понял, что, как это ни печально, а он уже стар, очень стар, несмотря на свою «моложавость».
И все же он колебался. Он долго молчал… Но письмо требовало ответа, и 25 (12) марта он написал Заболотному:
«Дорогой Даниил Кириллович,
Я все ждал предложения, о котором Вы писали, чтобы ответить Вам. Не получив его, отвечаю Вам теперь, извиняясь прежде всего за то, что запаздываю с ответом. Но все это время, да и теперь еще, я буквально завален работой и помехами к работе.
Прочитав Ваше дружелюбное письмо, я расчувствовался, и у меня зашевелилось в душе чуть не желание вернуться в Россию. Но, после зрелого размышления, я решил, что было бы невозможно мне приняться за новые дела. Посудите сами: мне скоро минет 68 лет. Это такой возраст, когда стариков нужно гнать в шею. Где же мне переселяться на новое место и взяться за управление большим институтом, которое и ранее мне было не по силам. К тому же, хоть я и враг всякой политики, но все же мне было бы невозможно присутствовать равнодушно при виде того разрушения науки, которое теперь [47] с таким цинизмом производится в России. В конце концов, я решил доживать конец моей научной деятельности на старом месте, где я сижу почти 25 лет. Видимо, здесь мне придется сложить и мои кости. Мне надо думать о приготовлении себя к доставлению роскошного яства Perfringens'y [48] и его родичам, а не рисковать в новом деле, на котором я могу запутаться.
Примите же мою сердечную благодарность за Ваши добрые пожелания. Искренне преданный Вам Ил. Ил. Мечников.
P. S. Передайте мой привет Вашим товарищам».
Итак, он счел невозможным «рисковать в новом деле» — он, всегда рвавшийся к новым делам, так смело и безоглядно рисковавший!..
Когда-то, много лет назад, он предложил Пастеру закупить на скудные средства института человекообразных обезьян, но Пастер рискнуть не решился, и это означало, что великий искатель истины сдал, изменил себе, что дни его сочтены…
Вспомнил ли он об этом, когда писал Заболотному? Вряд ли. Тем более знаменательно, что теперь то же самое повторилось с ним самим. Есть своя внутренняя логика в том, что именно в этом письме Мечников, хотя и прикрываясь слегка иронией, впервые обнаруживает одолевавшие его размышления о приближающемся конце, о полном своем несуществовании…
Правда, и прежде, когда он получал откуда-нибудь приглашения, он имел обыкновение отвечать, что «из Пастеровского института перейдет в одно лишь место — в соседнее кладбище Монпарнас». Но никогда он не ссылался на свой возраст, не говорил, что стариков надо гнать в шею.
В 1913 году в лаборатории Мечникова среди прочих его учеников работал русский врач И. Манухин. Однажды, в воскресенье (это было 19 мая), когда лаборатория пустовала, Мечников вошел к нему и попросил исследовать его сердце. Просьба удивила Манухина, так как прежде он ни разу не слышал, чтобы учитель жаловался на здоровье.
«И[лья] И[льич] спокойно и внимательно следил за определением границ своего сердца, — вспоминал Манухин, — и вместе со мной отметил его расширение: верхняя граница сердца начиналась между 2-м и 3-м ребрами, левая заходила на lЅ пальца за сосковую линию, а правая — на Ѕ пальца за правый край грудины». [49]
— Это для меня не ново, — заметил пациент.
Врач приступил к выслушиванию.
Мечников смотрел на Манухина «строгим испытующим взглядом» и сам комментировал исследование;
— Не правда ли, у меня выслушиваются систолические шумы на аорте и у верхушки сердца? Их у меня всегда находили.
Манухин подтвердил.
— А не слышите ли вы диастолических шумов?
— Нет, я их не слышу, — последовал ответ.
— Спасибо вам! — воскликнул Мечников. — Я нарочно обманывал вас, пока вы не сказали мне правды, так как хотел наконец узнать ее. Мне мои друзья говорили, что у меня очень хорошее сердце. Даже настолько хорошее, что шутя называли его «детским сердцем». «Детское сердце» в мои-то годы?! А я, старый дурак, верил!.. Представьте себе, верил!.. И думал, что предохраняю себя от склероза благодаря своему режиму…
Нет, он нисколько не усомнился в правильности своего режима, но лишь посетовал, что слишком поздно начал его применять.
— Обещайте мне, — потребовал он, — что после моей смерти вы опубликуете все, что нашли сегодня у меня.
Он был взволнован.
На следующий день он пришел в институт «позднее обыкновенного, мрачный и подавленный, говорил о своей близкой смерти и выглядел больным, — вспоминал Манухин. — Он следил за своим пульсом, прислушивался к деятельности своего сердца, и ему стало казаться, что оно уже отказывается работать».
Через несколько дней, подымаясь по лестнице, он неожиданно опустился на ступеньку и сказал сопровождавшему его служителю, что умирает и что нужно немедленно вколоть ему камфору.
«Как я узнал, — писал Манухин, — истинное состояние здоровья всегда скрывалось от И[льи] И[льича] его друзьями, чтобы не волновать его мыслью о смерти».
Манухин попытался исправить свою «ошибку». Трубка, которой он выслушивал больного, «оказалась» засорена, и под этим предлогом он обследовал Илью Ильича вторично. Мечников как будто бы поверил и скоро опять стал говорить о своем «детском сердце». Но когда через полгода Манухин покидал институт, Илья Ильич неожиданно сказал:
— А вы помните, что обещали мне весной? Так не забудьте же…
Часть лета 1913 года Илья Ильич и Ольга Николаевна провели в Сен-Леже — живописном поселке на опушке леса Рамбулье. Здесь было много прекрасных пейзажей, так и просившихся на полотно, и Ольга Николаевна по утрам отправлялась с мольбертом в лес, а Илья Ильич садился к столу писать статью о мировоззрении Метерлинка.
Писатель незадолго перед тем выпустил философское произведение, в котором восставал против страха смерти. Он был убежден, что страх смерти связан с неизвестностью, и рассматривал все возможные варианты. Метерлинк доказывал, что «страдания ада», которыми пугает церковь, не существуют. Метерлинк не верил в бессмертие нашего индивидуального сознания, но он не верил и в его уничтожимость. Он полагал, что после смерти дух человека сливается с «космическим целым», свободным от страданий.
Мечников в своей статье обратил внимание на то, что тема смерти — это главная тема не только последней книги, но и всего творчества Метерлинка. В молодости Метерлинк, по утверждению Мечникова, был пессимистом, позднее же его мировоззрение стало более светлым. В этой эволюции Илья Ильич видит еще одно подтверждение своего закона «ортобиоза».
Но он не желает «витать в той области, в которой чувствует себя привольно Метерлинк». Ведь о «космическом целом» нам ничего не известно. Да и «убеждение, что чувство жизни исчерпывается в глубокой старости, когда умолкает страх смерти и прекращается потребность в дальнейшем, чуть не бесконечном существовании, составляет, по-моему, гораздо более действительное утешение, чем перспектива слияния бессознательной души с неизвестным мировым целым».