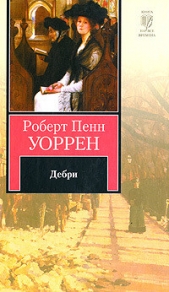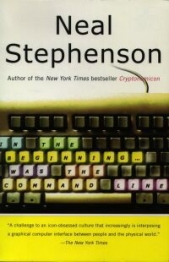Швейцер
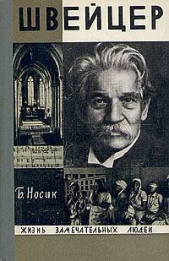
Швейцер читать книгу онлайн
Читателю, который раскроет эту книгу, предстоит познакомиться с воистину замечательным сыном XX века.
Доктор философии и приват-доцент теологии одного из старейших европейских университетов, музыкант-органист, видный музыковед и органный мастер в пору творческого расцвета и взлета своей известности сразу в нескольких гуманитарных сферах вдруг поступил учиться на врача, чтобы потом уехать в глухие дебри Центральной Африки и там на протяжении пол-столетия строить больничные корпуса на свои с трудом заработанные деньги, без вознаграждения и без отдыха лечить прокаженных, врачевать язвы, принимать роды.
И при этом он не оставил музыку, не бросил философию, а, напротив, поднялся и в той и в другой области до еще более высокого уровня.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Доктор впускает первого сегодняшнего пациента. «Имя?» — «Н'Замбу»; «Деревня?» — «Медемгогоа»; «Племя?» — «Пахуан»; «На что жалуетесь?» — «Червяк в груди»; «Карточка?» — Пациент достает с шеи затертую карточку, и Доктор отыскивает его имя и диагноз по журналу.
Американцы знакомятся со штатом. Сестры Эмма и Матильда (они здесь дольше всех, на них все хозяйство). Доктор Рене Кюнн: он эльзасец, сосед Швейцеров из Мюнстера, пасторский сын, с детства был поклонником доктора. Мадемуазель Гертруда Кох; она выступала с лекциями в Европе, собрала деньги на родильную палату, здесь она работает уже давно. У габонцев для всех врачей свои имена: Старого Доктора они зовут Минонг («Рифленое железо»), Мисопо («Большой живот», или «Важный»), Слоновое ухо. У других докторов тоже вполне внушительные имена: Торнадо, Длинный-длинный.
Назавтра один из гостей обнаружил у себя в комнате забытую доктором старую шляпу и вернул ее Швейцеру.
— О, вы честный человек, — с облегчением сказал доктор. — Когда я положу шляпу не там, я всегда в ужасе, что я потерял ее. Это ведь мой старый друг. Друзья в Европе предлагали мне новую шляпу, но я отказывался. Я покупаю в Европе новую ленту, и тогда шляпа опять становится как новая.
В этом рассказе уже отзвуки легенды. Люди, бесконечно уважавшие этого человека, его идеи и его труд, начинают поэтизировать все детали устоявшегося быта Ламбарене и облик самого доктора: его галстук-«бабочку», который он прикалывает в особо официальных случаях, его пеликанов, его антилоп, мартышек, ламбаренские праздники и проповеди, его шутки, его любимые рассказы. Потом в погоне за «человеческими черточками», за «хьюмэн тач», все эти детали обстановки, одежды и поведения брали на вооружение газетные репортеры, возносили, разносили... А потом новое поколение репортеров с завистью писало, что все это шедевр саморекламы и все это игра в свой стиль. Доктор, не решавшийся гнать репортеров, был так же мало ответственен за шумиху, как, скажем, Альберт Эйнштейн за мучившую его популярность.
А Швейцеру действительно не нужна была новая шляпа. Он действительно ездил третьим классом по железной дороге «только оттого, что не было четвертого». Он с присущей ему вспыльчивостью выбранил повара, когда тот подал к столу вино, потому что многие люди посылали в Ламбарене свои трудовые деньги, и тратить их надо было только на самое необходимое. Он никогда не был аскетом, но не видел проку ни в моде, ни в погоне за удобствами, все больше заполнявшей в послевоенные годы жизнь американца и европейца, ни в «искуплении мира вещами».
Война давно кончилась, а доктор Швейцер никак не мог выбраться в Европу. То голод грозил костлявой кистью схватить за горло его изможденных пациентов. То больница переживала нехватку персонала. То затевалось новое строительство.
Европа оживала после военного кошмара, и Эльзас все чаще начинал вспоминать едва ли не самого знаменитого и удивительного из своих сыновей. Швейцер собирался в Европу. Шел уже десятый год без отпуска. У доктора Швейцера было теперь четверо внуков, а он не видел еще ни одного. Да и дом его в Гюнсбахе, уцелевший во время войны, тоже манил к себе безмятежными днями труда. В день своего семидесятитрехлетия Швейцер вдруг услышал Гюнсбах: базельская радиостанция организовала ко дню рождения Швейцера передачу из Гюнсбаха. Первым говорил мэр, голос которого снова звучал бодрой верой в прогресс:
— «Привет тебе, дорогой Альберт. Я мэр Гюнсбаха. Мог ли я подумать, что когда-нибудь стану поздравлять тебя с днем рождения и посылать свои пожелания по радио за тысячи миль за океан! Но вот это случилось. В таких делах мы быстро двигаемся вперед.
...Жители Гюнсбаха и Гиршбаха вспоминают тебя сегодня и желают тебе всего наилучшего... Но должен тебе признаться кое в чем. Они немножко сердятся на тебя, потому что ты так долго не приезжал домой. Это неправильно. Разве мы больше ничего не значим для тебя? В конце концов, ты принадлежишь и нам, а не только черным, хотя, упаси боже, мы ничего не имеем против них...»
«— А я, Фриц Кох, хочу сказать тебе, что вся деревня тобой очень гордится...»
«— А я, Арнольд, твой сосед, хочу, чтобы ты знал, что в трудные дни я тут присматривал за твоим домом, как за своим собственным. Для тебя мне ничего не трудно сделать».
В 1948 году произошло событие, прошедшее, вероятно, незамеченным в Ламбарене, а может, и вообще незамеченным в мире, но при всем том отражавшее распространение идей ламбаренского доктора среди людей медицинской профессий. В Женеве был принят медиками всего мира новый вариант Гиппократовой клятвы, текст которого наряду со страшным опытом новых, продемонстрированных фашизмом возможностей перерождения врача в условиях нацистского режима и военного безумия отразил и ту роль, которую играла ныне идея уважения к жизни. Вот отрывок из этой клятвы:
«Я буду поддерживать высочайшее уважение к человеческой жизни от самого ее зачатия. Даже под угрозой я не употреблю своего знания в нарушение законов человечности».
Глава 17
В ноябре 1948 года Швейцер вернулся в Гюнсбах после почти десятилетнего отсутствия, и его верный секретарь и делопроизводитель Эмми Мартин отметила, что он выглядит очень усталым. Он поехал в Шварцвальд и там после долгого перерыва увидел свою Рену, которая приближалась к тридцатилетию и которая была теперь матерью четырех детей. Он впервые увидел своих четырех внуков — мал мала меньше. Из гор Шварцвальда он вернулся отдохнувшим и сел за работу в Доме гостей в Гюнсбахе. Приезжали друзья, коллеги, незнакомые ему сторонники Братства Боли...
Иногда в Гюнсбах вдруг наезжали дотошные репортеры. При всем своем презрении к продажной буржуазной прессе Швейцер не мог, да и не хотел прогонять их. Одно дело какая-то там абстрактная пресса, другое дело — видеть живого человека, который сидит сейчас перед ним, и понимать, что благополучие, спокойствие этого человека зависят и от него тоже, от его интервью.
Корреспондент Рейтер спросил его однажды, как доктор оценивает сообщение «Таймс» о том, что он собирается бросить Ламбарене.
— Не верьте ничему из того, что говорит пресса, — доверительно сказал он репортеру. — Это как осенние листья: они падают на землю, и о них забывают. Вы можете прочитать, что я украл у соседа серебряные ложки, но пусть это вас не беспокоит, все скоро забудут, что я их украл.
Однажды во время прогулки к доктору подошла девушка и попросила разрешения сопровождать его до Канцельрайна. У нее был тонкий, благородный профиль, и доктор не мог вспомнить, кого она напоминает ему. Баронессу Меттерних? Фанни Рейнах?
Нет, она была из здешних, из гюнсбахских, фамилия ее матери Бегнер. Да, да, правильно, ее покойный дедушка учился с доктором в одном классе. Доктор даже упомянул его в своей книжке о детстве. А она? Ее зовут Луиза, и она хочет посоветоваться с доктором. Она надумала поступить на медицинский факультет, чтобы потом уехать в тропики... Доктор шел рядом с ней и думал о том, что это счастье — видеть еще при жизни, как передаются крупицы твоего духа другим, более молодым. Вот так подошла к нему когда-то на лекции в Страсбурге двадцатипятилетняя Эмма Хаускнехт. Вот так... Доктор спросил, что стало с бедным Карлом и его сыновьями. Девушка нахмурилась. Она сказала, что дедушка умер в Берлине в самом конце войны. Его сын, тот, что был фашистом, был повешен за репрессии против мирных жителей... Его внук, то есть ее двоюродный братишка, погиб в мае 1945 года, в фолькштурме. Ему было пятнадцать. Младший сын, тот, что был коммунистом, погиб в нацистском лагере. Ее мать, младшая дочь дедушки Карла, погибла при американской бомбардировке...
Луиза замолчала, и доктор почувствовал себя виноватым. Он не знал, в чем он был виноват. В том, что была война, или в том, что он стал расспрашивать ее о семье.
— Сейчас я работаю кельнершей, коплю на университет...
Доктор вспомнил свои двенадцать плюс семь лет учебы и подумал, что ему выпала очень счастливая юность. Потом он сказал, глядя прямо перед собой: