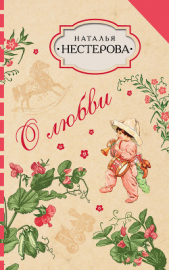О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания
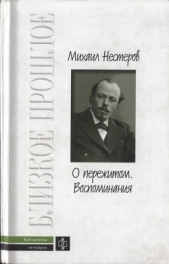
О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания читать книгу онлайн
Мемуары одного из крупнейших русских живописцев конца XIX — первой половины XX века М. В. Нестерова живо и остро повествуют о событиях художественной, культурной и общественно-политической жизни России на переломе веков, рассказывают о предках и родственниках художника. В книгу впервые включены воспоминания о росписи и освящении Владимирского собора в Киеве и храма Покрова Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. Исторически интересны впечатления автора от встреч с императором Николаем Александровичем и его окружением, от общения с великой княгиней Елизаветой Федоровной в период создания ею обители. В книге помещены ранее не публиковавшиеся материалы и иллюстрации из семейных архивов Н. М. Нестеровой — дочери художника и М. И. и Т. И. Титовых — его внучек.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Серов был представлен отлично, его портрет Вел<икого> К<нязя> Павла Александровича в латах на коне и другие останавливали на себе внимание. Репин был вне конкурса [292], так как участвовал в жюри по присуждению наград. Виктор Васнецов поставил свою «козырную» вещь — «Аленушку», два образа — слабые повторения с иконостасных образов Владимирского собора. Суриков дал «Снежный городок», я — «Под благовест» и «Чудо». Они не были плохи, однако не были и такими, из-за которых ломают копья.
Жюри присудило «Гран при» Серову, золотую медаль Малявину за его «баб», приобретенных в Венецианскую национальную галерею. Виктору Васнецову присуждена была серебряная медаль, но Репин и гр<аф> И. И. Толстой так горячо протестовали против такого решения, что медаль была отменена, а Васнецову был дан Французским правительством «За общие заслуги перед искусством» орден Почетного Легиона.
Таким образом дни альянса не были омрачены [293]. Мне дали серебряную медаль, Левитану тоже. Суриков, несмотря ни на что, не был понят вовсе, и ему присудили бронзовую медаль. Многим из наших известностей дали лишь почетный отзыв [294].
Самолюбия были оскорблены. Все были недовольны… но что же поделаешь? Виноваты были и мы, смотревшие сверху вниз на заграничные выставки.
Как-то, придя в Русский отдел, я увидел на одной из левитановских картин траурный креп и тотчас же узнал в Комиссариате о полученной телеграмме, что Левитан скончался в Москве внезапно, от разрыва сердца. Моя и наша общая печаль была искренней: хороший человек, отличный художник молодым еще выбыл из наших рядов. Я искренне любил его, считал верным своим приятелем и ценил его дивный дар [295].
Выставка 1900 года не была так разнообразна, как 1889-го. Для меня одно отсутствие «Жанны д’Арк» Бастьен-Лепажа было ничем не заменимо. Был очень хорош Английский отдел.
В Париже и у нас дома говорили, что на выставке общее внимание возбуждал наш железнодорожный отдел: он был лучшим после Американского. Постройка С. И. Мамонтовым пути на север к Архангельску была прекрасно иллюстрирована большими панно Константина Коровина [296].
Я не мог тогда долго оставаться в Париже, скоро вернулся в Россию. В сентябре я снова был в Киеве. В это время я обдумывал набело композицию своей «Св<ятой> Руси».
Здоровье моей дочки улучшилось, хотя глухота осталась. Часто думалось о том, чтобы около нее был верный, надежный человек… Такого не было, и это заботило меня в те дни.
До сих пор я ничего не сказал о своем знакомстве с княгиней Натальей Григорьевной Яшвиль, имевшей в моей жизни, особенно второго киевского периода, большое значение. Я познакомился с ней в стенах Владимирского собора в пору его окончания.
Тогда Нат<алья> Гр<игорьевна> была недавно овдовевшая молодая женщина. Она была замужем за потомком того кн<язя> Яшвиль, который участвовал в убийстве Императора Павла, после чего остаток жизни провел в покаянии им содеянного.
Муж Нат<альи> Гри<горьевны>, полковник лейб-гвардии Царскосельского гусарского полка, делал быструю карьеру, но внезапно умер, оставив молодой жене двух маленьких детей. Судьба их впоследствии была трагична. Кроме детей, кн<язь> Яшвиль оставил большое, совершенно расстроенное имение Сунки близ Смелы, когда-то принадлежавшее друзьям Пушкина — Раевским.
Молодая вдова осталась в тяжелых условиях. Одаренная волей, большим умом, Наталья Григорьевна (урожденная Филипсон — род, ведущий свое начало из Англии; отец ее — старый генерал, был когда-то попечителем Петербургского учебного округа) не пала духом.
Разоренное имение скоро превратилось в благоустроенное, с виноградниками, с фруктовыми садами, с огромным, приведенным в образцовый порядок лесным хозяйством. В Сунках была построена прекрасная школа, где крестьянские дети обучались различным ремеслам, баня (в Малороссии их не знали, а с тех пор баней пользовалось все огромное село Сунки).
Многое было задумано и умно осуществлено Натальей Григорьевной. В имении, еще недавно запущенном, теперь цветущем, Нат<алья> Гр<игорьевна> устроила мастерскую кустарных вышивок, образцами коим служили музейные вещи XVII–XVIII века. Вышивки скоро стали популярны не только в России — они шли в большом количестве за границу. В Париже сунковские крестьянки получили золотую медаль. Вышивки эти давали молодым женщинам и девушкам-крестьянкам отличный заработок, особенно в зимнее свободное время. Так жило село Сунки до 1917 года…
Горе, когда-то пережитое, забывалось, дети росли… Наши отношения крепли, выросли в дружбу. В Киеве мы жили визави: кн<ягиня> Яшвиль со своей сестрой С. Г. Филипсон жила в небольшом особняке, наполненном художеством, музыкой, заботами о детях. Нат<алья> Григ<орьевна> до замужества училась у Чистякова, была и тут даровита, как всюду, к чему ни прикасались ее ум и золотые руки.
Наталья Григорьевна в моей жизни заняла большое место. Она сердечно, умно поддерживала все то, что могло меня интересовать, духовно питать. Часто у нее я находил душевный отдых, как человек и как художник. Ее богатая натура была щедра в своей дружбе, никогда, ни на один час не покидала в трудные минуты. Видя меня иногда душевно опустошенным, одиноким, она звала меня вечером к себе и частью в беседах об искусстве, частью музыкой — Шопеном, Бахом, а иногда пением итальянских старых мастеров небольшим приятным своим голосом — возвращала меня к жизни, к деятельности, к художеству. Я уходил от нее иным, чем приходил туда.
У нее были обширные знакомства, связи, по преимуществу среди киевской знати. Но я не любил бывать у Яшвиль в дни приемов: уж очень я был несветский человек.
За массой дел по имению, по разным светским и благотворительным обязанностям, она успевала заниматься искусством. Она хорошо, строго, по-чистяковски рисовала акварелью портреты, цветы. Как-то сделала и мой портрет, но он, как и все с меня написанные, не был удачным.
Дети ее отлично, умно воспитывались, ее радовали. Постоянным и верным другом и помощником была ее сестра — Софья Григорьевна Филипсон — натура горячая, любящая.
Живя летом в своих Сунках, Нат<алья> Гр<игорьевна> однажды, когда я был уже вторично женат, предложила мне поселиться у нее на хуторе, в четырех верстах от Сунок.
Хутор Княгинино был уголком рая. Это был сплошной фруктовый сад с двумя прудами: в одном водились караси, карпы и пр<очие>, в другом было преудобно купаться. Славный малороссийский домик был обставлен на английский лад. Мы прожили там с небольшими перерывами девять лет, девять прекрасных, незабываемых лет… Дети наши вспоминают об этом времени, как о счастливейшем.
Там, на хуторе, жил приказчик — садовник Василий, хохол с мистическим мировоззрением, упорный кладоискатель, человек необыкновенной честности и не без романтизма в прошлом. В него, очень красивого, когда-то влюбилась помещичья дочь и, не имея возможности осуществить свою мечту, покончила с собой. Серьезность, какая-то замкнутость Василия делали его одиноким, и лишь книги серьезного содержания отвлекали его от каких-то далеких дум.
Были на хуторе и еще служащие — семья малороссов-стариков с внуком Трохимом, приятелем и сверстником моих детей. Во время покоса, нашей страды, нанимались временно рабочие из села.
Славно нам жилось в Княгинине. Часто наезжали гости из Сунок в экипажах и верхами. Они пили у нас чай, насыщались и уезжали шумной ватагой домой.
Я много работал. Там были написаны почти все этюды к Марфо-Мариинской обители. В Сунках же был написан портрет Натальи Григорьевны, бывший на моей выставке 1907 года, потом у самой Натальи Гр<игорьев>ны и после 1917 года перешедший в Киевский Исторический музей [297]…