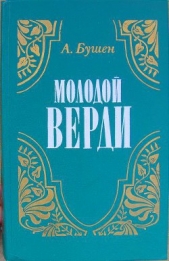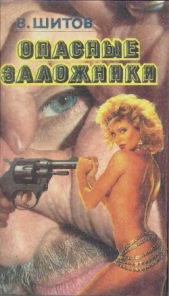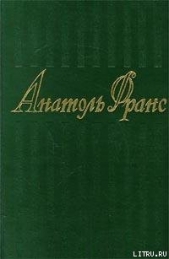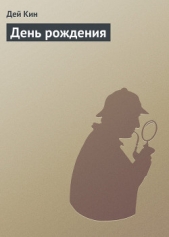Верди. Роман оперы

Верди. Роман оперы читать книгу онлайн
Автор книги – известный австрийский писатель – в популярной и доступной форме рассказывает о жизненном и творческом пути великого итальянского композитора, освещая факты биографии Верди, малоизвестные советскому читателю. В романе очень убедительно педставлено противостояние творчества Верди и Рихарда Вагнера. В музыке Верди Верфель видел высшее воплощение гуманистических идеалов. И чем больше вслушивался он в произведения великого итальянского мастера, тем больше ощущал их связь с народными истоками. Эту «антеевскую» силу вердиевской музыки Верфель особенно ярко передал в великолепной сцене венецианского карнавала, бесспорно принадлежащей к числу лучших страниц его романа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Налей и себе стаканчик, Беппо, и выпей, согрейся. Вон ты как дрожишь! Послушай: если на тебя опять когда-нибудь нападет такой страх, ты непременно зайди ко мне!
Слуга хотел уйти. Но маэстро задержал его:/
– Завтра вечером уезжаем! Уложи чемодан! И заблаговременно снеси его на вокзал. Да выспись хорошенько!
Беппо, очень довольный, ушел со стаканчиком. Маэстро привстал в постели. Он велел засветить два газовых рожка. Радость победы над припадком, какое-то чудесное воодушевление озаряли его. Он дышал сильно и глубоко.
Охваченный благодарностью, что не умер, что жив, он едва сдерживал слезы. Чего только не привелось ему победить в этом плавучем темном городе! Свою музыку! Свое честолюбие! Свое прошлое! Последнее опьянение женщиной! А под конец и смерть!
Но вместе со смертью он одолел и Вагнера. Без горечи думал он о немце, который сейчас, наверно, спал. Прилив дружеского чувства смешался с восторгом обновленной жизни, которая разлилась по испуганным жилам юным хмелем, бодростью, счастьем победы. Пусть мир ставит его неизмеримо ниже немца, но разум его, который теперь знал и чувствовал более высокую истину, чем все писатели на свете, разум его не поддастся обману: Рихард Вагнер – его товарищ на земле!
Сложилось твердое решение: «Завтра пойду».
Чувство счастья длилось. Маэстро не гасил света. Он соображал, в котором часу пойти во дворец Вендрамин. Потом вспомнил о Фишбеке. К нему он тоже зайдет; не робея, переговорит обо всем, отдаст деньги ему или его жене. А затем – домой!
Блаженная усталость, какая обычно следует за такими припадками, погрузила маэстро в сон.
Он проспал, чего с ним никогда не случалось, до полудня. Его разбудил сенатор. Старый друг был сам не свой. Он взволнованно бегал по комнате. Он проявлял радостную, но в то же время тревожную нервозность, с видимым трудом скрывая какую-то тайну, и спрашивал опять и опять у маэстро, как он думает провести вечер.
Верди, решив про себя уехать тайком, чтоб избежать прощальных подарков и грустного расставания, небрежно ответил, что будет вечерам дома.
– Отлично! – восклицал сенатор. – Превосходно! Браво! Значит, все прекрасно устраивается!
Но с этими уверениями не совсем согласовался беспокойный жест, которым он поглаживал свою белую гриву борца за свободу.
Маэстро в недоумении смотрел на друга. Но тот распрощался, вдруг заторопившись, и с лукавой улыбкой ушел от своего кумира.
Глава десятая
Мелодия прорвалась
I
После ночного дождя, после утреннего тумана солнце осилило мглу над морем и белесую тусклость города. Оно вдруг неистово загремело по площадям, переулкам, каналам, застрекотало из окон с другого берега. Ничей глаз не мог хотя бы ненадолго задержаться на лагуне, которая несла, приплясывая, раздробленное отражение света.
Сегодня утром приехал в Венецию Ренцо, младший сын сенатора, – безвинный предлог вероломной лжи Итало. Юноша сопровождал своего учителя Лабриолу в Падую, где тот хотел поработать несколько дней в университетской библиотеке для завершения какого-то исследования. В свой первый свободный день Ренцо решил навестить родной город, отца и брата.
Отца, однако, он не застал дома. Сенатор, как уверял слуга, ушел с восьми часов. Итало, вернувшись только к девяти утра, крепко спал. Студенту ничего не оставалось, как уйти из дому и, пользуясь ясным днем, побродить по залитому светом городу.
Он вышел на Пьяццу.
Здесь его соблазнило то, что в последний раз он испытал десятилетним мальчиком: ему захотелось подняться на Кампанилу.
Когда он очутился наконец совсем один на вышке колокольни, он был пленен неописуемой картиной восхитительных окрестностей, чьим-то колдовством превращенных из действительности в чуть колеблемую пелену фата-морганы. Только город ясно рисовался твердым телом, туловищем полузверя-полурыбы в красно-буром чешуйчатом панцире крыш, а промеж чешуек торчали тут и там, отливая металлом, бугры и щетина. Допотопное это животное, свернувшись в клубок, нежилось под солнцем, на усталой, лоснящейся зеркальной глади, которая, покоряясь насилию божества, отвечала на него миллионом похотливых взглядов. Даль была женщиной, все более холодной и девственной по мере отступления к горизонту. Море же было похоже на призрачное марево, на дыхание, уже сбегающее с оконного стекла! Колышась и плещась, играла цепь островов: Лидо, Маламокко, Пеллестрина. Неподалеку спали их братья и дети: Мурано, Бурано, Маццорбо, Торчелло. Дымилась изъеденная болотами terra ferma. Кипели брожением поля равнины. Лучи сосали влагу из холмов, с которых в эту раннюю пору уже стаял снег. Тело матери тихо дышало запахом утренней хлебной опары, кукурузы, вина, дыма от людских жилищ. Здесь, наверху, был слышен только он, а не тот тропический пронзительный запах грузного зверя, возбуждающий запах, составленный из запахов оливкового масла, мокрого белья, нашатыря, грязи и тухлой рыбы. И она сверкала, эта равнина, в тысячу щелей. У границы того света, на рубеже невидимого, в рое ангелоподобных облаков, Альпы друзой кристаллов преграждали дорогу наступающей весне.
Ренцо низко перегнулся через перила. Вытянутый вкось прямоугольник Пьяццы, нахохлившийся купол пестрой Базилики, взволнованная сутолока домов, острова, лагуна, море – все было таким маленьким и близким! Огромный диаметр горизонта легко уложился бы в один человеческий шаг.
От дурманящего чувства высоты, от распада земных масштабов у юноши закружилась голова. Он закрыл глаза за своими очками с облезлой никелировкой. Его поташнивало; и было досадно, что даже вышколенный политической экономией мозг все-таки подвержен таким влияниям. Но, видно, стихии имели зуб на рационалиста.
Скрипнул канат. Закряхтел где-то рядом шпиль, плоско и негулко сорвался медный звон. И вот разразились громом колокола, распространяя безумие. Разбитый, растерзанный воздух взвыл от боли. Вихрь, воздушный воронковидный Мальстрем, закружил в водовороте танца.
Ренцо в ужасе нахлобучил шляпу и, подгоняемый фуриями звона, исчез сквозь люк в недрах колокольни.
Ночное недомогание не оставило в теле маэстро никаких следов. Им овладела тихая торжественность – с детства знакомое ощущение, когда за утренним окном спокойно синело летнее воскресенье.
Он сменил свой будничный, почти крестьянского покроя костюм на безукоризненный черный сюртук, придавший его статной фигуре, худощавой, но плечистой, настоящую элегантность. Затем он пригласил парикмахера, который немного подрезал на затылке его мягкие густые кудри и подровнял ему бороду.
Таким преображениям всегда сопутствует эстетическое удовольствие, но радость сейчас коренилась глубже. Судорога последних недель, борьба за будущее, в которой он был побежден, неуверенность, страх, ложное ощущение своей неполноценности, смирение перед тем, другим, – все это отошло вместе с ночным припадком. Здесь, в Венеции, он в строгой очной ставке свел счеты с самим собой.
В основе праздничного подъема сейчас лежало вновь обретенное чувство собственного достоинства, какое маэстро испытывал, бывало, в свои лучшие часы. С новой, удивительной объективностью познал он самого себя. Он больше не мерил себя по кому-то другому, – потому что лишь больное, увечное существо жадно смотрит вокруг и завидует. По-настоящему сильный не станет подкапываться под иерархию. Пусть будут и высшие и низшие существа; если сам он в своем роде совершенен, он участвует в демократии совершенств и никогда не может быть уничтожен. Только тех, кто нигде не чувствует себя на месте, вечно тянет расшатывать лестницу иерархии. (Но и это – высокая и очень важная задача.)
В рождественскую ночь, когда гондола Верди скользила некоторое время по каналу рядом с гондолой Рихарда Вагнера, маэстро сказал в успокоение самому себе:
«Я – Верди, ты – Вагнер».