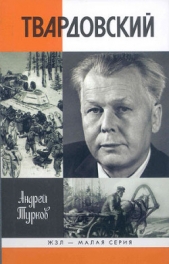Родина и чужбина

Родина и чужбина читать книгу онлайн
Воспоминания родного брата поэта Александра Твардовского. Раскулачивание, ссылка, плен, лагеря - в общем обычная жизнь в России 20 века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Хорошо. Мы будем говорить по-русски. Да, вот что, — он взглянул на того, кто привез меня сюда, — позаботьтесь, чтобы нам был кофе, и… затем оставьте нас пока одних.
Присутствующие вежливо отдали честь и удалились. Майор, пристально всматриваясь в мое лицо, ставил меня в положение в чем-то подозреваемого, и я это понимал, поскольку доставлен был сюда по прошествии только одного дня после случая, когда я показал студенту-финну листовку "Посмотри и отомсти!". То, что у меня есть листовка и что я показывал ее некоторым пленным, отрицать не счел возможным, хотя и понимал, находясь под испытующим взглядом офицера, что уже одного этого достаточно для подозрения или даже обвинения меня в каких-либо запрещенных действиях, направленных против финнов. В общем, спустя почти полсотни лет установить истинную цену тех мгновений — бесполезная трата сил. Но вот что, с чего и как начал майор вести дознание, воссоздать в памяти можно почти полностью.
Прежде всего он дал понять, что если заподозрит, что его хотят обмануть, то это может кончиться очень плохо. После этих слов его лицо стало суровым, с проявлением черт ненависти, чего не замечалось, когда он, предлагая закурить, говорил, чтобы принесли кофе.
— Отвечайте. Вы есть коммунист? Вы были членом Be Ka Пе Бе?
— К моему сожалению, членом ВКП(б) я никогда не был.
— Как понять ваше "к сожалению"? Вы хотели им стать, но не смогли? Что же сожалеете, почему?
Такие вопросы ставили меня буквально в тупик. Что мог я ответить финскому офицеру? Видимо, только то, что мол, судьба: по независящим от меня обстоятельствам оказался в числе недостойных чести быть комсомольцем, а стало быть, и коммунистом. Или же что все десять довоенных лет скрывал, что вся семья отца была репрессирована, что бежал из ссылки? Что это была жестокая несправедливость по отношению известной части крестьян со стороны Коммунистической партии? Тогда о чем сожалеть? Не знаю, не знаю, как такое понять со стороны, но было, было именно так: я сожалел, завидовал и про себя роптал, как любой из моих сверстников, разделивших такую участь. Но что-то я должен был ответить на вопрос финского офицера, например, что если бы я был коммунистом, то, вероятно, получил бы образование, стал бы, может, опытным командиром, смог бы на войне решить поставленную задачу более правильно и не оказался бы в плену.
Но все это было не главным для офицера. Его волновал вопрос о листовке, попавшей в лагерь пленных.
— С какой целью, — начал он, — вы держали у себя советскую листовку и показывали ее пленным?
Я ответил, что никакой цели я не преследовал тем, что поднял на стройплощадке залетевшую листовку. Листовка для меня — голос борющейся Родины, у каждого есть чувства долга, тем более находясь в плену. Об этом никто не должен забывать.
— Кому вы ее передали?
— Листовка находится у меня, вот в этом кармане. Я могу ее показать вам. — Я вытащил листовку из нагрудного кармана и подал офицеру. В эту минуту я ожидал, что он разразится гневом, и уже был готов выслушать злые обвинения, но, слава Богу, этого не случилось, хотя листовка ему явно не понравилась. Горячась, он тряс ей передо мной, отвергая возможность подобных злодеяний со стороны финнов: "Это не есть документ! Графика — не фотоснимок! Плохая пропаганда!"
Наш «диалог» ненадолго прервался, майор встал, тихо обронил:
— Хеткисен вайлле {8} ,— и вышел из комнаты, оставив меня одного.
Тут же, видимо по его приказанию, в комнату вошел чиновник. Когда майор возвратился, то, как бы уточняя, спросил:
— Ваш номер — шестьсот три?
— Да, шестьсот три, — подтвердил я.
— А теперь вот о чем. Что вам известно о партизанах, которые действуют в тылу финских войск?
Мой ответ, что о партизанах мне ничего неизвестно и что считаю этот вопрос явно надуманным, майора не удовлетворил, и он с наигранной злостью разразился вопросом еще более провокационным:
— Есть подозрение, что вы имеете связь с партизанами посредством оставления записок в условных местах и при содействии местного населения эти ваши записки попадают в руки партизан. Что вы можете ответить по этому поводу?
— Как можно заподозрить меня в том, что пленному, находящемуся под постоянной охраной, вообще невозможно сделать?
Я почувствовал что задача поставлена любыми средствами уличить меня в связях и пособничестве советским партизанам.
В доказательство моей преднамеренности содействовать партизанам приводились слова из моих ответов, в которых я высказал мое сожаление, что не случилось стать коммунистом и что каждый человек должен помнить о долге перед Родиной. Но как-то угадывалось, что, разжигая в себе чувство ненависти, майор не мог полностью подавить в себе сострадание. Это подтверждалось и тем, что он то и дело вставал из-за стола и в глаза уже не смотрел — что-то мешало… "Уведите!" — было последнее его слово.
До наступления сумерек меня, вконец подавленного, продержали запертым в какой-то кладовке. Степень бесправия так значительна, что, будучи голодным и ослабшим физически, не рискуешь заявлять об этом; в обостренном слежении звуков — надежда хоть как-то предугадать ближайшие повороты судьбы. Это томительное ожидание длилось неизвестно сколько, может, всего лишь полчаса; но ведь ты ничем не защищен, сделать с тобой могут все, что кому-то пожелается, так что и минуты кажутся нескончаемо долгими.
Услышал фырканье подошедшей к подъезду машины. Хлопок дверцей. Послышались шаги по ступенькам, по коридору. Еще несколько минут… Меня выпускают, куда-то увозят. Минут через пятнадцать — двадцать подъезжаем к какому-то лагерю. Я различаю в тусклом освещении ограждение из колючей проволоки, что-то похожее на вахту, но машина не останавливается, поворачивает и уходит в сторону; метров за двести от зоны остановилась возле домика финского образца.
В комнате размером примерно четыре на четыре метра возле стола с телефоном я увидел, можете себе представить, того самого лейтенанта Хильянена, которого случалось видеть два-три раза в лагере, из которого меня взяли. "Зачем бы это меня к нему?" — мелькнуло во мне, но страх еще не возник, еще нельзя было разгадать, чего от меня ждут. Хильянен сидел откинувшись на спинку стула, его правая рука лежала на столе. В общем, весь он выглядел беспечным, как бы находясь в ожидании чего-то ему положенного — нога на ногу, дымящая сигарета в левой руке.