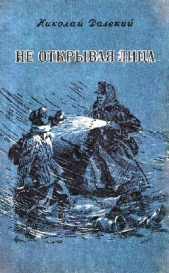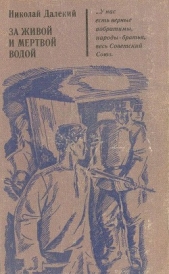За живой и мертвой водой
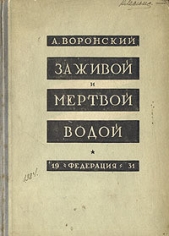
За живой и мертвой водой читать книгу онлайн
Александр Константинович (1884–1937) — русский критик, писатель. Редактор журнала «Красная новь» (1921-27). В статьях о советской литературе (сборники «Искусство видеть мир», 1928, «Литературные портреты», т. 1–2, 1928-29) отстаивал реализм, классические традиции; акцентировал роль интуиции в художественном творчестве. Автобиографическая повесть «За живой и мертвой водой» (1927), «Бурса» (1933). Репрессирован; реабилитирован посмертно.
В автобиографической книге «За живой и мертвой водой» Александр Константинович Воронский с мягким юмором рассказал о начале своей литературной работы. Воронский — будущий редактор журнала «Красная новь». За бунт его исключили из духовной семинарии — и он стал революционером. Сидел в тюрьме, был в ссылке… «Наша жизнь» — замечает он — «зависит от первоначальных впечатлений, которые мы получаем в детстве… Ими прежде всего определяется, будет ли человек угрюм, общителен, весел, тосклив, сгниёт ли он прозябая или совершит героические поступки. Почему? Потому что только ребёнок ощущает мир живым и конкретным.» Но и в зрелые годы Воронский сохранил яркость восприятия — его книга написана великолепно!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Анатолий по-прежнему молча жался с подушкой в угол дивана. Тогда я заметил, что у него неподвижные, напряжённые и застывшие глаза идиота. Подушку он выпустил из рук, подошёл к окну, поглядел в него, поспешно отодвинулся, лёг на кровать. Я попытался с ним заговорить, он ничего не ответил. Я вышел из комнаты. Олимпиада Григорьевна, давясь от слез и почему-то шёпотом, рассказала, что Анатолий был арестован, сидел несколько месяцев в одиночном заключении, заболел манией преследования, стал заговариваться; его выпустили на поруки, лечили, лечение не помогло: душевное расстройство перешло в тихое помешательство.
— Вот так и живём, — закончила она более спокойно, но убито свой рассказ. — Спасибо, что вспомнил старуху. Теперь почти никто и не бывает у нас, забыли. Да и нет многих: кто повешен, кто мается в тюрьмах, кто скрылся, а другие считают служение общему делу бреднями и увлечениями. Семья моя тоже разбрелась по белу свету — кто куда. Живу с мужем да с Толей.
Мы прошлись по саду. Осенние листья, поломанные, сгнившие беседки и скамейки, покосившийся, падающий забор, пустынные аллеи — от всего веяло непоправимой грустью и безнадёжным концом. Я расспрашивал Олимпиаду Григорьевну о знакомых, сведения были неутешительны; зашёл попрощаться с Анатолием. На этот раз он вяло и апатично подал мне руку.
— Узнал, кажется, — сказала Олимпиада Григорьевна; у неё оживились и потеплели глаза, и от этой робкой и неоправданной надежды стало ещё более тоскливо.
От Олимпиады Григорьевны я отправился к Доброхотовым. Недавно весёлая, дружная, жившая в довольстве семья городского священника тоже переживала теперь мрачное время. Ещё в Москве от Александры Петровны я узнал, что младший и единственный сын Доброхотовых, мой сверстник, социалист-революционер, сидит в тюрьме, но подробных сведений о нём не имел. Их сообщила мне мать Доброхотова, бойкая и неглупая женщина. Пугливо озираясь по сторонам, крепко вытирая губы платком, она рассказала, что сын сидел в Саратове неизвестным. В нашей губернии его усиленно искали власти по обвинению в убийстве трёх жандармов, не зная, что он сидит в тюрьме. Доброхотова пытливо всматривалась в меня, видимо, ожидая советов. Потом она говорила:
— Мой-то в отъезде сейчас. Жалеть будет, что не повидался с вами. Ох, тяжко ему, не приведи бог. Придёт домой из церкви — туча тучей. Час ходит в гостиной, другой, третий. Молиться много стал. Ночь-то не спит, встанет — и к иконам. Молитв никаких не читает, стоит как столб и глаз с иконы не сводит. А то опустится на колена, уткнётся лбом в пол и лежит так неизвестно сколько время. Даже страшно за него делается… Взглянуть бы на того хоть сквозь щелку: кому ведомо, может быть, и проститься не доведётся. Приходит тут недавно один его товарищ, себя не назвал. Сидел он с ним вместе в тюрьме, поклон передал. Наш-то строго-настрого заказал не писать, хуже, говорит, может быть. Боится. И мы трясемся каждый час. Как прочтём о повешенных, так и синеем сами с отцом, будто удавленники какие!.. И почему всё это случилось, мне непонятно совсем. Был в семинарии такой тихоня, скромник, в первых учениках шёл, на девицу красную походил, слова обидного не скажет, бывало, и в поведении отличный, — ан, вот какой грех вышел… И мы-то до чего дошли — и во сне не приснится. Хожу теперь к его товарищам, все дела ваши понимать стала, по-своему, по-старому, конечно. Этих, как их… сыщиков угадывать на улицах научилась. Мой-то и так уж говорит мне: «А что, мать, мы с тобой, чего доброго, и впрямь нигилистами сделаемся: волосья-то у нас и без того длинные, подходящие…» Народ ваш — ничего себе: смелые и уважительные, только не своею смертью все помрут. Глаз у меня на это есть, верный глаз. А вот о своём-то ничего не могу сказать: знать, не судья мать сыну, не судья.
Доброхотова, очевидно, из каких-то опасений боялась назвать сына по имени, говоря о нём: тот, наш, свой. Вспомнив, что ещё ничем не угостила меня, она всполошилась, заторопила кухарку с самоваром, достала из банок варенье, поставила тарелку с сотовым мёдом. Уходя, я сказал ей, что, может быть, мне придётся поехать в Саратов. Доброхотова обрадовалась, просила не забыть её сына.
Ночевал я у двоюродных братьев, семинаристов. Во время семинарского бунта они учились в младших классах и так же, как и я, били стёкла, вышибали оконные переплёты и жгли учительскую. Теперь они считались богословами. В полутёмной квартире я застал Григория, остальные ушли гулять. Григорий встретил меня с куском чёрного хлеба, кусок был намазан маслом и густо посыпан порошком. Григорий облысел, несмотря на свои двадцать три года, походил на куль, наполненный мягкой трухой. Я спросил его, с чем он ест хлеб. Григорий ухмыльнулся, положил кусок со следами зубов на стол.
— Это я фосфор жру. У Писарева есть выражение из Молешотта: «Без фосфора нет мысли». У меня что-то тупеть голова стала. За учебник сяду — книга из рук валится, спать охота. Должно быть, фосфора недостаёт: я и решил его с хлебом есть.
— И помогает?
— Не заметно, — сознался уныло Григорий. — Чувствую, полное тупоумие развивается.
Пришли браться Григория. Разговор с ними тоже был безрадостен. Семинария теперь совсем иная. Подпольной библиотеки нет и в помине, некому взяться. Прежние книги растащили. Никаких кружков тоже нет. В старших классах ввели новую науку — обличение «социалистических лжеучений». Среди семинаристов — пьянство, карьеризм, ябедничество, запуганность, забитость.
— А вы как живёте?
— Очень просто живём. Перевалил в следующий класс — и слава богу.
Григорий, потирая лысеющую голову, с которой обильно сыпалась на чёрную рубашку перхоть, пояснил:
— Ты думаешь, нам революция нужна? Не нужна она нам. Нам пойло и стойло нужны, баба о шести пудов. Нажрался, напился — и на боковую. Встал, заложил тарантас зеленя посмотреть или в соседнее село к приятелю-попу заглянул, перцовки клюнул, в картишки перекинулся — и домой опять спать часов на десять.
— Да вы же ещё молоды, вы со школьной скамьи не сошли!
— Вот то-то и оно, что никак не сойдешь. Мне недавно двадцать четвёртый год пошёл, а я ещё в пятом классе сижу, а в духовное училище меня привезли девяти лет: четырнадцать зим учусь, и прах его знает, когда этому учению конец придёт. В одном четвёртом классе три года сидел: один раз по лени остался, на другой год ногу сломал в деревне, с лошади упал. Теперь фосфор лопаю. Какой тут социализм! Утром насилу глаза продерёшь — подойдёшь к зеркалу: они у тебя, как у судака протухшего, плюнуть хочется. Стал я однажды Куно Фишера о Канте читать, ничего не понятно, но про один случай запомнил: когда Кант занимался, то часами с места не сходил; а доктора моцион ему прописали. Так он, бестия, что придумал! Насморк у него был хронический; вот он свой платок и решил класть на столик, который подальше от него в углу стоял. Задумается об идеализме и категорическом императиве, а насморк-то и напоминает о себе, нос облегчения просит. Волей-неволей приходится вставать и за платком идти в угол. Прочитал я про это и думаю: дай и я по Канту поступать начну — насморк и у меня тоже есть, и тоже хронический. Кант от занятий не мог оторваться, а я лежать привык прямо даже до одурения. Взял и положил платок вон в том углу. Не помогло. Лежу, из носа течёт, а встать за платком не могу, будто меня цепями опутали и к кровати привязали, — ногой пошевелить трудно. Так я, знаешь, наловчился языком мокрое подлизывать. Вот тебе и жизнь по Канту… Нет, куда нам до Кантов и до социализмов этих самых! Рылом не вышли.
Григорий рассмеялся, остальные его дружно поддержали. После чая послали за водкой.
Утром, гуляя по берегу Цны, я встретился с высоким молодым священником. На нём шуршала тёмно-лиловая щегольская ряса; он широко и уверенно шагал, деловито перебирая пальцами правой руки серебряную цепь нагрудного креста. Я узнал своего одноклассника Вселенского. Вселенский считался в семинарии одним из лучших учеников. Науки давались ему легко, он свободно читал по-французски и по-немецки, брал из нелегальной библиотеки Писарева, Добролюбова, Герцена, Чернышевского, книги возвращал аккуратно обёрнутыми в бумагу. В наших кружках не состоял, но был к ним близок. Умел ладить и с нами и с начальством, но достоинства своего не терял. После окончания семинарии Вселенский предполагал поступить в университет.