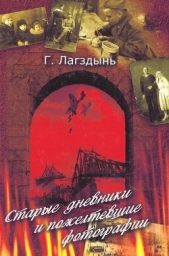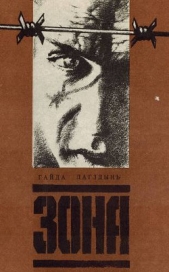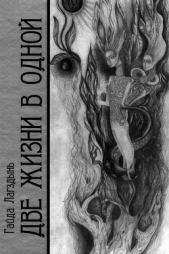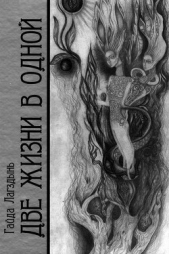Две жизни в одной. Книга 1

Две жизни в одной. Книга 1 читать книгу онлайн
Лагздынь Гайда Рейнгольдовна — член Союза писателей СССР, России, ветеран педагогического труда, учитель высшей категории, лауреат 2-го Всероссийского конкурса Госкомиздата и Союза писателей СССР, лауреат Всероссийского конкурса по центральному Федеральному округу, лауреат премии губернатора Тверской области за лучшие книги для детей, дипломант конкурса «Хрустальная роза Виктора Розова» с вручением медали «За вклад в отечественную культуру». Награждена медалью имени М. Шолохова и нагрудным знаком губернатора «За заслуги в развитии Тверской области». В сентябре 2010 года за многолетнюю творческую деятельность, значительный личный вклад в развитие культуры Тверской области награждена Почетным знаком губернатора «Крест святого Михаила Тверского». Г.Р. Лагздынь создала и 20 лет руководила авторским детским музыкальным театром со званием «народный», «образцовый». Театр трижды становился лауреатом Всероссийских конкурсов театральных коллективов.
Книга-1 «Две жизни в одной» — автобиографическая документально-художественная повесть о жизни и творчестве педагога и писателя Гайды Рейнгольдовны Лагздынь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы согласны, поправляем веревки от мешков, перекинутых через плечо, отправляемся в путь. Храбрость нашу как рукой сняло, стоило только подойти к соседней деревне. В домах полно беженцев. Кто тут подаст, когда сами голодные. Так и бредем от дома к дому, не решаясь зайти.
— Вот что, — говорю я, пытаясь как-то оправдаться. — А что спрашивать? Подайте Христа ради?
— Ты чего! Так раньше говорили. Мы же не нищие! — возмущается Ольга. — У нас временные трудности. Надо говорить: товарищи, помогите, не оставьте в беде!
— Так не пойдет! — заявляет Феликс. — Какой ты товарищ деду Ивану или тетке Матрене? Надо на чувства давить. Так, мол, и так, дети защитников Родины...
— Кто тут дети защитников Родины? — смеется на крыльце белокурый молодой красноармеец. — Заходите, гостями будете!
Чудно. Идет война, бои под Москвой, а здесь свадьба. Женится и уходит на фронт солдат.
Тетя Шура, сестра тети Маши-поварихи, маленькая сухонькая женщина. Она все время курит и молчит. А теперь она и не курит, нет курева. Спросить у солдат стесняется. Ведь никто из женщин не курит! Поэтому она еще больше молчит. За целый месяц я только один раз слышала ее тихий взволнованный голос. Проснулась среди ночи, замерзла, отлежала бок, сползла с соломы. Слышу, говорит тетя Шура:
— Неужели все? Неужели конец советской власти? Войска отступают, Москва рядом.
— Не впервой, — отвечает ей мужской голос. — Наполеон взял Москву, а что получилось? Кто бы на нас ни шел, все плохо кончали.
— За что боролись? Сколько сил положили, чтобы нашу жизнь построить? Все огонь палит, — печально продолжала тетя Шура. — На фронт бы пошла, да сил уже нет. Еле сижу.
— Ничего, выдюжим. Сыновья наши там бьются, насмерть стоят, — отвечал мужской голос.
Это был дядя Яков. Ночью он заболел. Утром дядя Яков лежал бледный и печальный. У него отнялись правая рука и правая нога. Он не мог говорить. Его разбил паралич.
В лесу много хвороста, но и снега по пояс. Наши городские ботинки давно промокли. В небе появился самолет. Мы решаем подождать выходить из леса на дорогу. А вдруг немецкий? Как в прошлый раз! Прилетел, стал строчить. Нам повезло. Никого не задело.
— Ребята, — кричит Ольга, — это же наш «ястребок»!
Сейчас мы и сами видим, что наш. Побросав вязанки, кричим, прыгаем, тонем в снегу. «Ястребок» покачал крыльями, помахал нам и улетел. Мы же продолжали кричать как оглашенные. Радости-то сколько! Подумать только — наш самолет!
А вечером на улице словно фонари понавесили — так светло. Темное морозное декабрьское небо разлиновано, как тетрадь по русскому языку. Откуда-то из-за леса, как будто лампочки иллюминаций, сплошным потоком бегут красные пунктиры.
— Что это? — спрашивают все друг у друга.
— Это — наступление, — улыбается в усы пожилой солдат.
Вот почему так много военных в деревне. Мы, ребята, сразу почувствовали: стало сытнее. Иногда поедим и каши из солдатской кухни.
— Это бьют наши пушки, — продолжает солдат.
— Бьют, а не слышно! Пушки ли? — усомнилась маленькая старушка.
— Такие вот у нас, маманя, пушки появились. Дальнеприцельные: «Катюши», «Катеньки».
Шестнадцатого декабря 1941 года город Калинин освободили. Мы возвращались домой. Улицы Затверечья обозначены лишь трубами обгорелых печей, торчащими из почерневших развороченных сугробов. Каменные строения глядели огромными пустыми прямоугольниками. Кое-где уцелели домишки. На улицах валялись перевернутые кровати, диваны без подушек, из снега торчали шкафчики с разбитыми стеклами, старые комоды. И кто так раскидал вещи? То и дело натыкаемся на трупы людей, припорошенные снегом.
На месте нашего двухэтажного дома, в котором мы жили, одна кирпичная стена да остатки дымящегося пола. Под окном нашей бывшей комнаты мама разгребла снег и нашла чудом уцелевшую дамскую сумочку, в которой хранились фотографии. Старая сумочка и фотографии обгорели.
— Вот и все, что осталось от прежней жизни, — говорит мама, обращаясь к моряку. На почерневшем покореженном фото — папа.
— А где мы будем жить? — спрашиваю я.
Мне холодно, страшно и как-то тоскливо жутко. Вокруг мертвая голодная пустыня. Мне хочется плакать, но я не плачу, потому что никто не плачет.
— Мир не без добрых людей, — говорит мама. — Хорошо, что живы
Около разбитого сарая темнели два бугорка. В одном — фашистский солдат. Отвоевался.
— А это кто? В ватнике? — мама подошла к другому темнеющему холмику, сгребла рукавицей с лица лежащей женщины снег. — Никак Анастасия? Нет, не Анастасия, — шептала мама побелевшими губами.
Лицо у женщины было синее-синее, шея туго перетянута толстой черной косой. — Видать, задушили. Совсем еще молодая... изверги рода...
Я почувствовала, как в широких варежках сжимаются мои онемевшие от холода пальцы, как где-то внутри образуется горячий ком.
— Мам, пошли, — тяну я маму за рукав. — Я боюсь, пошли.
— А куда? Дома-то нет, кроме этого развороченного снарядами сарая.
Живем мы в больнице, что в деревянной небольшой церкви напротив нашего бывшего дома, в кабинете врача. На улице валяются всякие вещи, но мы их не берем.
— Хозяева найдутся, — говорит мама, — стыда не оберешься!
У нас больничные железные кровати. Одеяла сшили из лоскутов плакатов. Вату добыли из старых матрацев.
Я дышу на стекло, чтобы в ледяной корке оттаяла дырочка. На улице солнечно. Страшно хочется есть и очень холодно.
— Спите, — говорит мама, — не так под ложечкой сосать будет.
А у меня и не сосет. Просто хочется есть.
— Феликс, ты не знаешь, кончилась картошка в овощехранилище? Камушки сладкие, а есть можно. Хорошо бы еще разочек сходить!
— Кончилось! Все! — отзывается из-под пестрого одеяла брат. — У хранилища сторожа поставили.
— Вот и ладно, — странно улыбается мама, — значит, советская власть на месте. Ничего, вчера из деревни Лешка-кривой приезжал, обещал конины привезти. Сколько там лошадей лежит побитых! Видно, страшный бой был у Исаевского ручья. Мужика вот нет, да и пилы тоже. Голыми руками не отхватишь. А вы лежите! Я скоро киселя сварю. Солдат овса дал, при лошадях он.
— А курица была ничего, правда, мам? — говорю я, залезая с головой под одеяло.
— Тощая больно, верно, дохлая. Как ее скрючило! — отзывается Феликс.
Ему не лежится. Феликсу надо делать жернова. Теперь все делают жернова. Отпилят от толстого дерева два куска, вобьют в них железные осколки, просверлят посередине дыру, куда зерно засыпать, приделают ручку, и готово — мели себе. Было бы что молоть! А мне хочется посмотреть на перину. Мальчишки на соседней улице обнаружили в подвале дома немецкий бункер. Чего там только не было! Даже китайская ваза фарфоровая там стояла. В бункере Феликс и нашел нашу перину. Он ее по наволочке узнал. Наволочка красная в широкую черную полоску.
Теперь наша перина лежала перед широко распахнутой печной дверцей — сохла. Я сидела и гладила ее.
— Скорей бы весна приходила, — говорила я, глядя в огонь.
— Что ты, дочка! Давно ли Новый год был? — вздыхает мама. — Трудная, голодная нынче весна будет. Ох и голодная!
Зима сорок второго года была очень холодной. Фашистские самолеты продолжали налеты на город. В парке, вернее, в ботаническом саду возле реки Тверцы стояли зенитки. Девушки-зенитчицы жили в соседнем доме. Они приглашали нас в гости, угощали чаем с хлебом и сахаром. Сначала мы стеснялись, отказывались, потом ели. Детей во время войны называли «иждивенцами». По «иждивенческим» карточкам полагалось всего триста граммов хлеба. И больше ничего — ни круп, ни соли, ни сахара. Поэтому всегда хотелось есть.