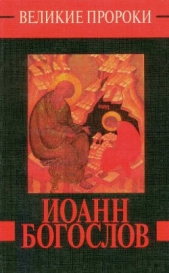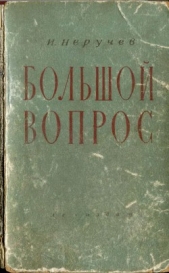Большой Жанно. Повесть об Иване Пущине

Большой Жанно. Повесть об Иване Пущине читать книгу онлайн
Натан Эйдельман — писатель, историк. Он автор книг «Лунин», «Пушкин и декабристы», «Герцен против самодержавия», «Тайные корреспонденты «Полярной звезды», «Твой девятнадцатый век» и многих исторических, литературоведческих работ, документальных очерков. В серии «Пламенные революционеры» двумя изданиями вышла повесть «Апостол Сергей» (о С. Муравьеве-Апостоле).
Новая книга Эйдельмана посвящена Ивану Ивановичу Пущину, одному из видных деятелей Северного общества декабристов, лицейскому другу Пушкина. В своеобразной форме дневника, который герой книги ведет в конце жизни, автор представляет яркую и сложную биографию Пущина, его участие в декабрьских событиях 1825 года, рисует привлекательный облик человека, стойкого, мужественного борца, не теряющего присутствия духа в самых сложных ситуациях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
22 сентября 1858-го. Казимирский
«Из поручиков в фельдмаршалы все же легче, чем из мичманов в цари»; отсюда поймете, что Яков Дмитриевич эту свою присказку не забывает. Сперва я в ней никакого смыслу не видел, кроме обыкновенного пикирования сухопутных и флотских. А сейчас померещилось — не скрыто ли тут чисто российское мечтательное рассуждение, сочиненное неким поручиком, которому дальше майора не выслужиться?
Прежде чем я вернул нашего жандармушку к вчерашнему пушкинскому делу, чрезвычайно меня занимавшему, он мне поднес две выписки из архивов, да каких!
Вот что значит — своего человека там иметь! Копирую для вас, Евгений, с аптекарской точностью.
Первое — из дел дежурного генерала: нумер 349 за 1826 год, лист второй:
«Сестра коллежского асессора и капитана коннопионерного эскадрона Пущиных [8] просит о дозволении ей и всему их семейству иметь свидание с помянутыми ее братьями».
На полях рукою покойного Николая Павловича: «Когда все кончится!»
Из этого страдальческого восклицания (дело происходит в июле 1826-го, как раз когда одних казнят, других отправляют) дежурный генерал Потапов сделал вывод, что свидание дозволяется, и запросил — «какая сестра?»; отвечено — Анна Пущина.
18 июля «дано дозволение на свидание».
Подпись: генерал-адъютант Потапов.
Одновременно с «коллежским асессором» Иваном Пущиным в крепости сидел и младший брат капитан Михаил Пущин, который был сослан в Сибирь, затем рядовым на Кавказ, выслужился в офицеры; после был окончательно прощен (скорее всего, благодаря слабости императора, вернее, еще великого князя Николая, к этому исправному военному). В 1858-м году Михаил Иванович Пущин служил уже в генеральском чине. Е. Я.
Мне ли не помнить того свидания, пред отправкой в Шлиссельбург, а потом в Сибирь; но, как понимаете, я все это переписал не ради своей или братниной персоны, а из-за «когда все кончится!».
И в самом деле — когда же?
Вторая архивная бумага еще занятнее, и, если б Яков Дмитриевич не слыхал от меня этой байки раз пять, он никогда бы не догадался.
Из бумаг того же дежурного генерала:
Дело о штабс-капитане Беляеве
Сначала запрос за подписью военного министра Татищева Потапову о служившем в 1820-м или 1821-м в Киевском гренадерском полку штабс-капитане Беляеве; запрос передается в инспекторский департамент; в Киевском полку таковой никогда не числился, но директор инспекторского департамента 16 января 26 года представляет следствию списки о всех офицерах с такой фамилией «на 1815-й, 1820-й и 21-й — в других полках и батальонах».
Списки на всех офицеров Беляевых!
А вы, Евгений Иванович, разумеете?
Вот вам еще один вид «реальной нереальности» (как в истории с Лихаревым). Но, слава богу, фата-моргана возникала не только в нашем революционном воображении, — кажется, буквально во всех делах и бумагах.
Спросили меня чуть ли не на первом допросе: «Кем принят в тайный союз?» Отвечаю, не моргнув: «Принят в 1821-м штабс-капитаном Киевского гренадерского полка Беляевым».
И вот, оказывается, на штабс-капитана моего выдали ордер, отпустили прогоны, пошли запросы, писанина. Несколько чиновников заняты исключительно тем, что ищут по всем полкам всех Беляевых: вот-вот грянет гром над тихим штабс-капитаном (а, может, с тех пор уж выслужился). Простите меня, неведомые Беляевы, которых я невольно всполошил: выдумал я своего штабс-капитана — просто подвернулся мне на язык почему-то именно этот чин, этот полк, эта фамилия.
Долго прожил мой Беляев — всю зиму с 25-го на 26-й год, — пока не привели меня на очную ставку с незабвенным Иваном Григорьевичем Бурцевым, а он, осердясь, кричал на меня: «Да я тебя принял в общество, я; признавайся и поскорее, а то мне одни через тебя хлопоты!!»
Ну как тут не признаться? Я сразу же крепко покаялся в своем дурном поведении и клялся, что впредь буду называть тех, кто меня принял, — так даже в этом раскаянии мой следователь, граф Чернышев, насмешку увидел. Впрочем, так или иначе, Беляев с тех пор исчез, сгинул. Думал, не повстречаемся более — а, глядь, Яков Дмитриевич вдруг привел старого знакомого. Так и хотелось: «Давно не виделись, капитанина! Как жил, служил, жена, детки?»
А теперь — говорю Казимирскому — хватит Пущиных, выкладывай насчет Пушкина, а то я после Беляева уж решительно не разумею, что есть быль и где небыль.
Яков Дмитриевич: Да нечего выкладывать, Сергей Александрович Соболевский, отправляясь за границу, случайно сошелся со мною в одном петербургском доме, мы как-то разговорились, и он, узнав мой чин и должность, вдруг спрашивает: «По случайности Пушкина не имели под своей, так сказать, опекою?»
Я сперва и не понял; говорю — «имел», разумея Бобрищева-Пушкина.
Декабристы Николай и Павел Бобрищевы-Пушкины; Николай уже в 1827 году был аттестован сибирскими властями как умалишенный, но был возвращен на волю (так же как и ходивший за ним младший брат) только 29 лет спустя. Е. Я.
— Да нет, не Бобрищевых, а поэта, Александра Сергеевича, друга моего.
Я отвечал, что, к счастью, нет — поэта опекать не довелось.
Соболевский же на это заметил, что неизвестно, к счастью ли?
— Надзирали за тем Пушкиным многие, да не уберегли. Может быть, как раз вы бы сумели. И себя, горько очень, Соболевский клял, что уехал из России именно тогда, когда поэту нужен был добрый друг; раза три он уверенно повторил, что, если б находился во время дуэли в Петербурге, ни за что бы не допустил…
Я слушал Казимирского нетерпеливо, удивляясь, зачем он, так сказать, не перейдет к делу. Соболевского я едва знал, но слышал, что Пушкин с ним вместе и проказничал, и бражничал, и умничал… Ну да ладно, «знакомых тьма — а друга нет!».
— Так где же, — спрашиваю, — то самое мое письмецо, в Михайловское?
Яков Дмитриевич: Сейчас явится, не торопите. Соболевский о вашем письме ничего не сказал: либо не знал, либо позабыл. Он только сообщил мне как общеизвестное, что Пушкин выехал из Михайловского накануне 14 декабря, и если бы не попались дурные приметы, один раз заяц, другой раз поп, то приехал бы прямо к мятежу на квартиру Рылеева и бухнулся бы в самый кипяток мятежа, дальнейшее можно вообразить!
Ничего этого в моем сибирском погребе я не слыхал, все узнаю впервые и сразу же спрашиваю Казимирского:
— Почему же думаете, что Александр Сергеевич по моему письму ехал?
— Да, во-первых, — отвечает, — вы однажды, в Ялуторовске, обмолвились (а я запомнил), что во время последнего свидания в Михайловском советовали Пушкину, если уж являться без разрешения в столицу, то заехать на квартиру к Рылееву, который чужд большого света; но только не к кому-нибудь из старинных лицейских или светских приятелей, которые куда более посещаемы, более на виду и оттого опаснее: полиция пронюхает мигом… Запало в мою жандармскую память сие любопытное совпадение: квартира главного заговорщика надежнее любого аристократического особняка… Вот я и подумал, что Пушкин собрался в путь по вашему плану.
Я: Но откуда знаете о письме? Ведь Александр Сергеевич мог отправиться в путь, и не получив моей цидулы, просто взбудораженный междуцарствием… Откуда знаете о письме?
Казимирский: Простое сопоставление фактов. Соболевский меня только навел на мысль, что вы как-то замешаны в этих пушкинских отъездах и приездах. А несколько дней назад мои подозрения подтвердил один молодой человек, прямо сообщил о том вашем последнем письме как о чем-то тривиальном.
— Кто же?
— Александр Александрович Пушкин.
— Сын? Никогда его не видел, но ведь ему было годика четыре, когда отца убили!
Тут Яков Дмитриевич терпеливо объяснил, что ему на одном из приемов представили офицерика — весьма молчаливого. Не склонный пускаться в родственный разговор, только и упомянул двух своих «дядьев», но Казимирский, узнав, что перед ним сын поэта, тут же передал добрый привет от незнакомого Пущина, «первого, бесценного друга» отца (я прошу извинения, но Яков Дмитриевич настаивает, что он именно таким образом выразился). Ал. Ал. Пушкин, судя по всему, не сильно разгорячился моим заочным поклоном, но, между прочим, вспомнил (с оттенком упрека — так, во всяком случае, показалось Казимирскому), как Пущин прислал папа письмо в Михайловское перед 14 декабря, чтобы ехал в Петербург, и папа поехал… А далее все, как в рассказе Соболевского: зайцы, попы и т. п.