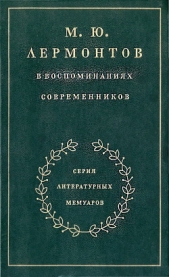Эйзенштейн в воспоминаниях современников

Эйзенштейн в воспоминаниях современников читать книгу онлайн
В сборнике воспоминаний о выдающемся мастере советского кинематографа С. М. Эйзенштейне выступают крупнейшие советские режиссеры и актеры — Л. Кулешов, Г. Козинцев, С. Юткевич, Г. Рошаль, М. Штраух, С. Бирман, Г. Уланова; композитор С. Прокофьев; художник М. Сарьян; критики Р. Юренев и И. Юзовский; зарубежные кинодеятели — Ч. Чаплин, А. Монтегю, Л. Муссинак, А. Кавальканти и другие. Они делятся своими впечатлениями об Эйзенштейне — режиссере, драматурге, теоретике и историке кино, художнике, ораторе, публицисте, педагоге.
Сборник представляет интерес как для специалистов, так и для массового читателя, интересующегося проблемами киноискусства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Где же ты был? — спросил Эйзенштейн.
— Родители, пионерлагерь… — мрачно ответил я.
— А мы тебя так искали, — сказал Эйзенштейн. — Но теперь твою роль играет другой мальчик. — Я чуть не заплакал от обиды. — Но ты не расстраивайся, — сказал Эйзенштейн, очевидно, поняв всю меру моего горя. — Ты будешь сниматься вместе с другими ребятами.
Так я снова познакомился с Эйзенштейном и снова не познакомился, потому что мне было тринадцать лет, но еще не было транзисторов и телевизоров, «Александра Невского» и «Ивана Грозного» и многого, многого другого. Я был знаком с Эйзенштейном в это время как обыкновенный мальчик, попавший в кино, при котором иногда пошутят, иногда его потреплют по щеке, иногда прокатят в автомобиле. Но бацилла кино уже попала в мой детский организм. Я получил свою первую кинозарплату и, конечно, купил первый фотоаппарат, старенький наивный кассетный «Арфо». Какое это было счастье!
Потом я узнал, что что-то случилось с «Бежиным лугом». И я уже не ходил на Потылиху. И не встречался с веселым лобастым дядей.
Но в шестнадцать лет я уже хорошо знал, кто такой Сергей Михайлович Эйзенштейн. И в шестнадцать лет я уже твердо решил работать в кино. Конечно, не режиссером. Потому что в то время режиссером был Эйзенштейн! А стать Эйзенштейном?.. Я не переоценивал свои способности.
Мои вкусы в это время были совершенно определенны. В театре моим богом был Мейерхольд, в поэзии — Маяковский, в кино — Эйзенштейн. Несмотря на свой весьма юный возраст, я смотрел очень многие спектакли Мейерхольда, я знал наизусть очень много стихов Маяковского, я, конечно, уже знал, кто сделал «Броненосец «Потемкин»».
Кто мог ответить мне на проклятый вопрос: «Могу или не могу?» Только один человек. Человек, которому я абсолютно верил, человек, приговор которого был бы окончательным и обжалованию не подлежал. Кроме того, я мог пойти к нему на правах «старой дружбы».
К этому времени у меня было много знакомых, работавших в искусстве. В частности, я был близок дому художника Владимира Владимировича Дмитриева. Он-то и заставил меня написать сценарий по повести Бестужева-Марлинского «Мореход Никитин». Сценарий показался Дмитриеву занятным, и он отдал его через Елизавету Сергеевну Телешеву Эйзенштейну с просьбой принять меня и поговорить со мной.
Так состоялось мое третье и окончательное знакомство с Эйзенштейном, прерывавшееся на время войной и прерванное навсегда его смертью.
Это утро я помню так, как если бы это было вчера. Мне назначили в десять. Конечно, я встал в семь, конечно, приехал на Ленинские горы в девять и час блуждал вокруг дома на Потылихе, где жил Эйзенштейн. Прямо перед фасадом «Мосфильма» возвышалась кирпичная тюремная стена, оставшаяся от съемок «Первой конной». Рядом протяжно и тоскливо выли собаки. Там был собачник. Была осень, деревья стояли голые. Хотелось либо умереть, либо поехать домой. Страх переполнял душу. Страх оттого, что я шел к своему богу. И страх потому, что бог должен был решить мою судьбу.
Без трех минут десять я стоял на площадке перед дверью в квартиру. В десять я позвонил. Уже знакомый мне скрипучий голос за дверью крикнул: «Кто там?» Я объяснил. «Тетя Паша, откройте». Прошаркали шаги. Дверь открыла сильная и крупная старуха — тетя Паша…
Голос из соседней комнаты сказал: «Вы проходите, а я сейчас приду».
Тетя Паша ввела меня в кабинет, вернее, в одну из комнат, потому что довольно скоро я узнал, что кабинет это вся квартира.
Итак, я находился в святая святых: месте, где мэтр творит. У меня было время осмотреться.
Позже я понял, что Сергей Михайлович дал мне это время специально, чтобы я смог привыкнуть и успокоиться. А привыкать было к чему. Ибо все в этой комнате было необыкновенным и непривычным, даже цвет. Да‑да, — цвет.
Комната была какая-то яркая и жизнерадостная. Стены были желтые, ярко-желтые, приближаясь к оранжевому, пол был серый, покрытый серым линолеумом (тогда это был совершенно неизвестный мне материал), посреди комнаты висела лампа синего стекла, вернее, люстра. Мебель была легкая, из гнутых никелированных трубок, с оранжевыми подлокотниками на стульях, с оранжевой доской стола. Теперь такая мебель бывает в молодежных кафе. Тогда это выглядело чудом из другого мира. Большое место в кабинете занимал рояль, на его черной полированной крышке стоял под стеклянным колпаком детский скелетик, на стене висела картина Дега и портреты — фотографии. Конечно, я сразу же увидел фото Чаплина, на котором была сделанная его рукою (самого Чаплина! — подумать только) надпись, и портрет Мейерхольда, — на белом воротничке рубашки было написано: «Горжусь учеником, уже ставшим мастером». В углу стояло старинное кресло, обитое красной материей с вышитыми золотыми цветами, особенно заметное рядом с ультрасовременной никелированной мебелью. И, наконец, были книги, книги, книги… Все какие-то необыкновенные, с яркими суперобложками, на всех языках мира. У Эйзенштейна в квартире фактически не было стен. Все стены были покрыты полками с книгами, использовался каждый сантиметр площади. Квартира была небольшая, всего три комнаты. Книги лежали везде, на столе, на пристенных карнизах, образованных шкафчиками с книгами. Переплеты книг сплетались в какой-то яркий веселый ковер. На столе под стеклом лежала карикатура на хозяина, а рядом рисунок на обрывке бумаги и было написано: «Королева английская подарила Ивану двух львов, можно вплоть до слонов…» Уже шла работа над сценарием «Ивана Грозного».
Я успел осмотреться и подумать, что же я буду говорить, — шутка сказать, но говорить ведь я буду с живым гением. Тогда я это хорошо ощущал.
Но вот раздались мягкие шаркающие шаги, и появился хозяин в ореоле своих буйных волос, одетый в серый с красными полосами мягкий пушистый халат. Из‑под халата выглядывали босые ноги в шлепанцах.
— Ну здравствуйте, здравствуйте… Вы не возражаете, если я буду разговаривать и шамать? Тетя Паша, принесите чайку. Слюна не будет бить?..
— Нет‑нет, спасибо, я завтракал…
— Сценарий я ваш прочитал. Лихо написано, — усмехаясь сказал Эйзенштейн и, заметив мой восторженный взгляд, устремленный на книжные полки, сказал: — Книги-то у меня все больше басурманские, — и лукаво взглянул на меня: дело в том, что в моем сценарии много раз употреблялось слово «басурманский», «басурмане»… — Ну, что же вы хотите?
Через три минуты я уже не ощущал, что сижу перед человеком, которого сам, не без помощи человечества, произвел в боги. Мне было легко и только хотелось, чтобы разговор никогда не кончался.
Тут сразу же хочется написать об одном поразительном качестве Эйзенштейна-человека, лишний раз доказывающем, что он был поистине великий человек.
Он никогда не спускался к собеседнику с высоты своего величия. Нет, каким-то ему одному известным способом он поднимал собеседника до себя, и человеку, говорившему с Эйзенштейном, начинало казаться, что становишься умнее, интереснее и можешь говорить обо всем на равных.
Я бы мог написать фразу: «Мы проговорили в это утро четыре часа», и это была бы правда. Когда я уходил, на часах было два часа дня. Но я стыжусь этой фразы, потому что она может вызвать улыбку у читающего мои записки человека. В самом деле, о чем четыре часа мог говорить живой классик советского и мирового кинематографа с шестнадцатилетним мальчишкой? Да, улыбка может появиться, но я знаю, что она никогда не появится у тех, кому выпало в жизни счастье быть самим участниками таких бесед с Сергеем Михайловичем.
Я изложил Эйзенштейну свои «взгляды на искусство» со свойственной молодости категоричностью в оценках. Я изложил ему свои планы, которые заключались в том, что я согласен чистить ему ботинки, бегать в магазин, мыть посуду и т. д., если он за это будет меня учить. И, наконец, честно рассказав с собственных «талантах и способностях», не утаив даже, что, в отличие от Эйзенштейна, я абсолютно не могу рисовать и у меня нет никакого слуха, я задал вопрос: могу ли при всех присутствующих и главным образом отсутствующих качествах стать кинорежиссером.