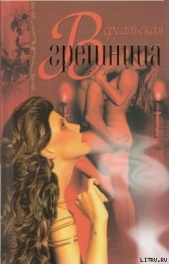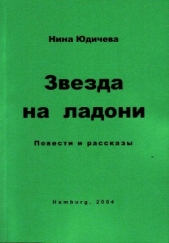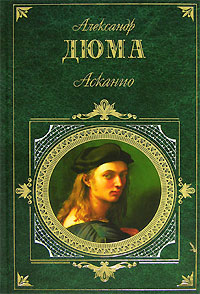Жизнь Бенвенуто Челлини

Жизнь Бенвенуто Челлини читать книгу онлайн
Жизнеописание ювелира и скульптора Бенвенуто Челлини (1500–1571) — одно из самых замечательных произведений литературы XVI века, в полной мере отражающее дух итальянского Возрождения. Это увлекательный рассказ о достойно прожитой жизни, отмеченной большими творческими дерзаниями, увенчавшимися успехом благодаря независимому духу и непреклонной энергии человека. О становлении своего таланта и о драматических эпизодах своей судьбы Челлини рассказал богатым разговорным языком, обладающим своеобразным и незабываемым очарованием. Перевод с итальянского М. Лозинского
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
XXXIII
Не успел я спешиться, как одна добрая особа, из тех, которые находят удовольствие в том, чтобы видеть зло, пришла мне сказать, что Паголо Миччери снял дом для этой потаскушки Катерины и для ее матери, и что он постоянно бывает там, и что, говоря обо мне, он всегда с насмешкой говорит: «Бенвенуто дал гусям стеречь латук и думал, что я его не съем; пусть теперь он грозится и думает, что я его боюсь; я ношу теперь эту шпагу и этот кинжал, чтобы показать ему, что и моя шпага режет и что я флорентинец, как и он, из Миччери, много лучшего рода, чем их Челлини». Этот негодяй, который принес мне это известие, сказал мне его с такой силой, что я тотчас же почувствовал, как меня схватила лихорадка, я говорю лихорадка, говоря не в виде сравнения. И так как, может быть, от такой зверской страсти я бы умер, то я избрал лекарством дать ей тот исход, который мне давался этим случаем, по тому способу, который я в себе чувствовал. Я сказал этому моему феррарскому работнику, которого звали Кьочча, чтобы он шел со мной, и велел слуге вести за мною следом моего коня; и, прибыв в дом, где был этот несчастный, найдя дверь приотворенной, я вошел внутрь; я увидел его, что он был при шпаге и кинжале, и сидел на сундуке, и обнимал Катерину рукой за шею, только что придя; услышал, как он и ее мать проходились на мой счет. Толкнув дверь, в то же самое время выхватив шпагу, я ему приставил ее острие к горлу, не дав ему времени сообразить, что и у него тоже имеется шпага, и при этом сказал: «Подлый трус, поручи себя Богу, потому что ты умер». Тот, не шевелясь, сказал три раза: «Мамочка, помогите мне!» Я, который имел желание убить его во что бы то ни стало, когда я услышал эти слова, такие глупые, у меня прошла половина злобы. Тем временем я сказал этому моему работнику Кьочче, чтобы он не выпускал ни ее, ни мать, потому что если я его ударю, то такое же зло я хочу учинить и этим двум потаскухам. Держа по-прежнему острие шпаги у горла, я немного чуточку его покалывал, все время с устрашающими словами; затем, когда я увидел, что он совсем никак не защищается, а я не знал уж, что и делать, и этому стращанию, мне казалось, никогда не будет конца, мне пришло в голову, на худой конец, заставить его на ней жениться, с намерением учинить потом мою месть. Так решив, я сказал: «Сними это кольцо, которое у тебя на пальце, трус, и женись на ней, дабы я мог учинить месть, которой ты заслуживаешь». Он тотчас же сказал: «Лишь бы вы меня не убивали, я все сделаю». — «Тогда, — сказал я, — надень ей кольцо». Я отстранил ему немного шпагу от горла, и он надел ей кольцо. Тогда я сказал: «Этого недостаточно, потому что я хочу, чтобы сходили за двумя нотариусами, дабы это совершилось по договору». Сказав Кьочче, чтобы он сходил за нотариусами, я тотчас же обернулся к ней и к матери. Говоря по-французски, я сказал: «Сюда придут нотариусы и прочие свидетели; первую из вас, которую я услышу, что она что-нибудь об этом скажет, я тотчас же убью, и я вас убью всех троих; так что будьте разумны». Ему я сказал по-итальянски: «Если ты возразишь хоть что-нибудь на то, что я предложу, при малейшем слове, которое ты скажешь, я тебя так истыкаю кинжалом, что ты у меня выпустишь все, что у тебя в кишках». На это он ответил: «С меня достаточно, чтобы вы меня не убивали, и я сделаю то, что вы хотите». Явились нотариусы и свидетели, заключили подлинный договор, и удивительно прошли у меня и злоба, и лихорадка. Я расплатился с нотариусами и ушел. На другой день приехал в Париж Болонья, нарочно, и велел меня позвать через Маттио дель Назаро; я пошел и застал сказанного Болонью, каковой с веселым лицом вышел мне навстречу, прося меня, чтобы я считал его добрым братом и что он никогда больше не будет говорить об этой работе, потому что отлично сознает, что я прав.
XXXIV
Если бы я не говорил, в некоторых из этих моих приключений, что сознаю, что поступил дурно, то те другие, где я сознаю, что поступил хорошо, не сошли бы за истинные; поэтому я сознаю, что сделал ошибку, желая отомстить столь странным образом Паголо Миччери. Хотя, если бы я знал, что это такой слабый человек, мне бы никогда не пришла на ум такая постыдная месть, какую я учинил; потому что мне мало было того, что я заставил его взять в жены такую подлую потаскушку, но еще потом, желая закончить остаток моей мести, я за ней посылал и лепил ее; каждый день я ей давал по тридцать сольдо; и так как я заставлял ее оставаться голой, то она требовала, во-первых, чтобы я платил ей ее деньги вперед; во-вторых, Она требовала очень хороший завтрак; в-третьих, я из мести имел с нею общение, попрекая ее и мужа теми разными рогами, которые я ему учинял; в-четвертых, я держал ее в очень неудобном положении по многу и многу часов; и быть в этом неудобном положении ей очень надоедало, настолько же, насколько мне это нравилось, потому что она была прекрасно сложена и приносила мне превеликую честь. И так как ей казалось, что я ей не оказываю того внимания, какое я оказывал раньше, до того, как она вышла замуж, и это было ей весьма в тягость, то она начинала ворчать; и на этот свой французский лад грозилась на словах, упоминая своего мужа, каковой уехал жить к приору капуанскому, [345] брату Пьеро Строцци. И, как я сказал, она упоминала этого своего мужа; а когда я слышал, что о нем говорят, тотчас же на меня находил неописуемый гнев; однако я его сносил, с неохотой, как только мог, памятуя, что для моего искусства мне не найти ничего более подходящего, чем она; и говорил про себя: «Я учиняю здесь две разных мести; первую — тем, что она замужем; это не мнимые рога, как его, когда она была для меня потаскухой; поэтому, если я учиняю эту столь отменную месть по отношению к нему, а также и по отношению к ней такую странность, держа ее здесь в таком неудобном положении, которое, кроме удовольствия, приносит мне такую честь и такую пользу, — то чего же мне еще желать?» Пока я подводил этот мой счет, эта дрянь распространялась в этих оскорбительных словах, говоря все время о своем муже, и такое делала и говорила, что выводила меня из границ рассудка; и, отдавшись в добычу гневу, я схватил ее за волосы и таскал ее по комнате, колотя ее ногами и кулаками, пока не устал. И туда никто не мог войти ей на помощь. После того как я ее порядком потрепал, она стала клясться, что не желает никогда больше ко мне возвращаться; поэтому первый раз мне показалось, что я очень плохо сделал, потому что мне казалось, что я теряю удивительный случай доставить себе честь. Притом же я видел, что она вся истерзана, посинела и распухла, думая, что если она и вернется, то необходимо будет лечить ее недели две, раньше чем я мог бы ею пользоваться.
XXXV
Возвращаясь к ней: я послал одну мою служанку, чтобы она помогла ей одеться, каковая служанка была старая женщина, которую звали Руберта, душевнейшая; и, придя к этой негоднице, она принесла ей снова выпить и поесть; затем намазала ей немного поджаренным солонинным жиром эти больные ушибы, которые я ей насадил, а прочий жир, который оставался, они вместе съели. Одевшись, она затем ушла, богохульствуя и проклиная всех итальянцев и короля, который их держит; так она шла, плача и бормоча до самого дома. Правда, что первый этот раз мне показалось, что я очень плохо сделал, и моя Руберта меня попрекала и все мне говорила: «Очень вы жестоки, что так свирепо колотите такую красивую девочку». Когда я хотел извиниться перед этой моей Рубертой, рассказывая ей про негодяйства, которые чинила и она, и мать, когда жила у меня, на это Руберта меня бранила, говоря, что это пустяки, потому что таков французский обычай, и что она знает наверное, что во Франции нет мужа, у которого не было бы рожек. На эти слова я рассмеялся и потом сказал Руберте, чтобы она сходила посмотреть, как Катерина себя чувствует, потому что мне было бы приятно, если бы я мог кончить эту мою работу, пользуясь ею. Моя Руберта меня попрекала, говоря мне, что я не умею себя вести; потому что едва настанет день, как она сама сюда придет; тогда как, если вы пошлете спросить о ней или навестить, она начнет ломаться и не пожелает идти. Когда настал следующий день, эта сказанная Катерина пришла к моей двери и с великой яростью стучалась в сказанную дверь, так что, будучи внизу, я побежал посмотреть, сумасшедший ли это, или кто из домашних. Когда я отворил дверь, эта скотина, смеясь, бросилась мне на шею, обнимала меня и целовала, и спросила меня, сержусь ли я еще на нее. Я сказал, что нет. Она сказала: «Так дайте мне хорошенько закусить». Я дал ей хорошенько закусить и поел с нею в знак мира. Затем принялся ее лепить, и тем временем у нас случились плотские услады, а затем, в тот же самый час, что и в прошедший день, она до того меня разбередила, что мне пришлось надавать ей таких же самых колотушек, и так мы продолжали несколько дней, проделывая каждый день все то же самое, как из-под чекана; немного разнилось от большего к меньшему. Тем временем я, который учинил себе превеликую честь и кончил свою фигуру, приготовился отлить ее из бронзы; в каковой я имел кое-какие трудности, так что было бы прекрасно для надобностей искусства рассказать об этом; но так как я бы слишком задержался, я это обойду. Довольно того, что моя фигура вышла отлично, и это было такое прекрасное литье, какого никогда не делалось. [346]