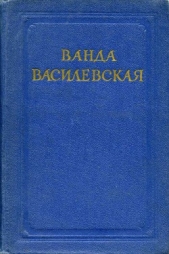Дневник

Дневник читать книгу онлайн
Старшая дочь Л. Н. Толстого начала вести дневник с четырнадцати лет и вела его всю жизнь. Своеобразная, интересная жизнь дома Толстых нашла отражение в дневнике Татьяны Львовны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мама пишет, что говорят, что Миша Олсуфьев женится. На здоровье! Если на хорошей девушке, которая будет способна разбудить его, то я искренно порадуюсь. Я на это не была бы способна: я ожесточилась бы на него and would lead him a dog's life {и создала бы ему собачью жизнь (англ.).} и себе также.
Я рада, что я это узнала после нашего последнего свидания с ним, когда мне стало совершенно ясно, что между мною и им нет ничего общего, что он мне чужд и далек, и у меня к нему было только чувство маленького озлобления, которое и это теперь совсем прошло. Нет, замуж я ни за кого выйти не могу. Я слишком требовательна, а сама даю слишком мало. Если бы случились совсем идеальные условия (на что мне совершенно нельзя надеяться), то я не прочь бы выйти замуж. У меня нет того желания остаться девушкой, какое было после "Крейцеровой сонаты" (может быть, потому, что я ее давно не перечитывала). Но я совершенно не вижу возможности найти того человека, за которого я согласна была бы выйти замуж. На днях мы были у Писаревых и оттого ли, что я с завистью смотрела на их хорошие, ласковые отношения, или оттого, что Писарев осудил Стаховича (что-то нехорошее сказал про него), я ехала домой с тяжелым чувством одиночества и обиды.
Получила вчера очень милое письмо от Рише. Отвечу ему и буду поддерживать с ним переписку хоть изредка. Мне приятно иметь друзей во всех частях света, а Рише мил, и от него и у него я могу слышать много интересного32.
Когда я буду в Париже учиться живописи, что составляет мою хроническую мечту, я познакомлюсь с его женой и буду бывать у них.
Маша вчера получила от Е. И. Попова очень интересное письмо, которое я выписываю.
"За Козловом в одном вагоне со мной очутился Емельян Ещенко, которого Лев Николаевич знает отчасти и который вчетвером с товарищами возвращался из Сибири. И он рассказал мне про голод в Оренбургской губернии и Акмолинской области, в тех частях около Кургана, через которые они проезжали. В одной хате, куда они попросились ночевать, их не пустили, потому что только что померла от голода женщина, а раньше ее трое человек. В другой деревне умерло тоже четверо и 50 человек просили священника их отысповедовать {т. е. готовились к смерти.- (Прим. сост.)}, Есть люди, которые не ели по шести суток. Вся скотина, мелкая и крупная, заколота и съедена, и в одном месте просили священника и едят маханину {конину (областн.).}. Те, которые поближе к городам, перебрались под них и перебиваются кое-как, а дальние сидят на местах. Хлеба очень много и хватило бы, так сами голодающие говорят, но весь позаперт у купцов. Два года тому назад был необычайный урожай (овес был 7 копеек за пуд, пшеница – не помню) и все было ссыпано к купцам, а они теперь не продают, дожидаясь повышения цен. Народ волнуется и озлоблен. Ещенко проезжал через одну деревню, сгоревшую дотла и сгоревшую от двора хлебного купца, которого подожгли свои односельчане. В одной из деревень мужики заложили свою землю в банк и устроили столовую своим обществом и кормят стариков 1 раз, а детей – 2 раза в сутки. Вот то, что я слышал и что может быть интересно вам, а я надеюсь еще раз побывать у Ещенко и узнать подробности… Правительственная помощь этим крестьянам доходит в количестве 7 фунтов в месяц, ж то только тем, до которых доходит…"
Вчера и сегодня я ничего не сделала – это меня мучает. Целых два дня быть голодным из-за того, что мне беспокойно было вчера отпустить папа одного к Мордвиновым, а сегодня совестно второй раз велеть закладывать. Это – не резон, и если только возможно будет, то после обеда я пойду или поеду в Екатериненское открыть столовую. Метель сильная, так что, пожалуй, меня не пустят. Ну, тогда надо написать то, что я хотела, в газеты о том, в каком состоянии народ, и о том, как я намерена употреблять присланные деньги. Я уже получила денежное объявление на 6 рублей. Тут надо самолюбие и литературу откинуть, а написать попроще и как можно правдивее все, что я вижу, потому что это необходимо нужно. Во-первых, многие, которые говорят, что нет голода, узнают, насколько он есть, во-вторых, на деле испробовав такой способ помощи, как столовые, надо сообщить о нем все подробности, и, может быть, другие последуют нашему примеру, а в-третьих, может быть, это вызовет в некоторых жалость и желание помочь, что всегда желательно.
Тут страшно холодно, так что даже писать трудно33.
Хотя было трудно, но я пошла в Екатериненское после обеда и рада этому. Назначила избу, в которой будет столовая, и сходила к старосте, чтобы сказать ему назначить очередную подводу за провизией. Видела нескольких мужиков, и сегодня еще новая сторона голодного вопроса открылась мне. Это то, что крестьяне все приготовились к тому, что проедят к весне свою землю, поэтому не берегут ни лошадей, ни семян. Положим, что если бы они и хотели, то не могли бы. Что-то будет? Я часто думаю о том, чем этот год кончится, и не могу себе представить, что будет с мужиками. Ведь в их хозяйстве камня на камне не останется. А кулаки, купцы, разные мельники и др., которые теперь за крошечные деньги купили и хлеб, и скотину, разживутся на этом и поработят себе мужиков совершенно, если только они это допустят и не восстанут против этого, что очень возможно и вероятно.
Получила письмо от Оболенского. Цензура делает ему какие-то затруднения с его сборником, но он надеется их пересилить 34.
Сейчас приходил мужик и говорил, что два дня не ел. Скоро таких будет много. Еще признак нищеты это то, что вечером в редкой избе виден свет.
Метель продолжается. Идя в Екатериненское, мне приходилось лезть через горы снега, а когда возвращалась, то одну минуту боялась не найти дома. Уже смеркалось, ветер встречный и снег так и залепливал глаза.
Опять вечером у меня то тяжелое чувство, которое теперь редко проходит. Это не жалость к голодающим и не страх за них, это не чувство жалости к себе и даже не одно беспокойство за мама и отчасти за Леву, и не страх за папа, а все это вместе. И это выходит очень тоскливо.
Сейчас сижу у себя. Маша рядом учит одного малого грамоте. Вера пишет. Папа у себя. Ветер воет и стучит в окна. Даль от станции и невозможность выехать (хотя я этого и не желаю) тоже удручающе на меня действует. И бог мне не помогает. Это оттого, что я не умею обратиться к нему. В тяжелые минуты я всегда чувствую это пустое место или, скорее, не пустое, а наполненное другим: привязанностью к людям, из которых главная к папа.