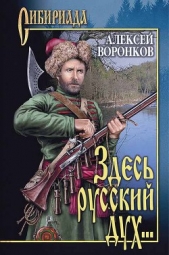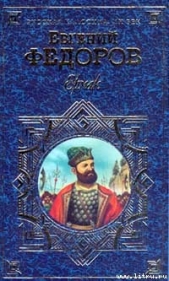Дар бесценный

Дар бесценный читать книгу онлайн
Жизнь каждого подлинного художника — подвиг. О творческом подвиге одного из великих русских живописцев, Василия Ивановича Сурикова, написала эту книгу внучка его Наталья Петровна Кончаловская.
И может быть, впервые в русской литературе жизнь и творчество живописца-деда доводится воспеть поэтессе-внучке, на этот раз воплотившей в художественной прозе как внутренний, так и внешний образ героя. Автор, как бы раскрывая читателю двери мастерской, показывает сложнейший процесс рождения картины неотрывно от жизни и быта крупнейшего русского мастера кисти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Профессору Чистякову все же удалось отстоять «бунтарей». Суд приговорил виновных к штрафу — по восьми рублей с каждого.
В квартиру на Одиннадцатой линии Васильевского острова, где Кончаловские снимали комнату, в самый день крестин новорожденной дочери на праздничный обед явился… околоточный. Все проштрафившиеся были налицо, во главе с крестным отцом — Сергеем Тимофеевичем Коненковым. Тут же восседал и Павел Петрович Чистяков. Околоточный объявил приговор. Объяснив, что здесь происходит, ему поднесли рюмку водки. Он поднял ее:
— Как нарекли-то девицу?
— Натальей! — ответил отец.
— Ну, так за здоровье новорожденной Натальи!
Околоточный опрокинул рюмку, крякнул, поправил усы и, получив сорок рублей штрафу, щелкнул каблуками и исчез…
Так Василий Иванович Суриков стал дедом, и первой внучкой его стала я — автор этой книги. Он привязался ко мне, не успев даже приглядеться как следует, — трех недель от роду я начала путешествовать. Отец — Петр Петрович начал ездить в поисках материала для картины на конкурс. Сначала он повез нас с мамой в Вологду, потом дальше на север, в Архангельск, и я стала тоже получать письма от дедушки.
«23 июля 1903
Здравствуйте, Олечка, Петя и Наташа!
Я очень обрадовался, получив ваше письмо. Очень долго ждали. Вот куда вы заехали! Поклонитесь от меня памятнику Петра Великого и еще поклонитесь в сторону деревни Денисовки, откуда Ломоносов выбрался на свет божий. Желаю Пете побольше этюдов хороших наработать. Наташечку поцелуйте несчетное число раз. Берегите ее — она всем нужна. Будьте здоровы. Целую вас крепко.
Я работаю тоже.
Ваш папа».
Мой отец все же оставил нас с мамой в Архангельске и уехал дальше, в Кандалакшу и в Мурманск. Он решил прямо на берегу написать большую картину «Рыбаки». Возвращался он оттуда чуть ли не с последним пароходом и осенью в Петербург привез большое полотно, от которого все его товарищи и преподаватели пришли в восторг. Но Петр Петрович был взыскателен к себе и, подумав, попросил у Академии два года отсрочки, сдал картину «Рыбаки» на хранение академическому швейцару и уехал с семьей на зиму в Италию. Так одиннадцати месяцев от роду я уже оказалась в Риме. К дедушке в Леонтьевский переулок родители завезли меня проездом, чуть не с вокзала на вокзал, и он успел только отметить мой рост на шкафу, что стоял у них в коридоре.
Зимой в Риме мать моя простудилась и захворала, и встревоженный дед писал в Рим:
«20 декабря 1903
Здравствуйте, дорогие Олечка, Наташечка и Петя!
Зачем ты, душа, не бережешься? Ты ведь давно знала, что нельзя без фуфайки ходить. Боюсь я этой римской лихорадки. Помнишь, тогда простудилась в Риме? А то я буду беспокоиться.
Я не работаю вот уже две недели: картины на выставку таскают. Боюсь простудиться. Здоровье ничего.
Наташечку и вас каждый день вспоминаю. Махочка отмерена на шкапу. Теперь, видно, на 0,5 вершка выше стала.
Целую вас всех.
Твой папа.
Так бы и поносил махочку на руках… страшно я ее люблю… Махочка, махочка!»
Так началась его горячая любовь и привязанность ко мне. И было удивительно для всех окружающих наблюдать, как этот суровый, нелюдимый человек становился мягким, как воск, если я что-нибудь просила у него. Он ни в чем никогда мне не мог отказать.
Я помню…
Фрагмент первый
Я помню майский день в церковном дворике в Москве, в Левшинском переулке. Двор зарос густой короткой травой. Дорожка из каменных плит пересекает его, и в расщелинах плит пробиваются кустики одуванчиков с желтыми звездами. Дедушка «пасет» меня во дворике. Мне три года. На мне белое шерстяное платье, волосы надо лбом подвязаны лентой в смешной торчащий хохол, и вся я толстая, смуглая, курносая.
— Дедушка, покатай меня верхом!
Отказа быть не могло: светло-коричневая шляпа уже лежит в траве, и я сижу у деда на плечах. Сидеть неудобно. Крепкая прямая шея и волосы, стриженные в скобку, колют мои голые коленки. И колко, и щекотно, и смешно. Зато многое стало видно. За каменной церковной оградой слышен цокот копыт и тарахтенье колес по булыжнику, виден плывущий над ней верх дуги с колокольчиком. Он тренькает, а под ним мелькают гнедые уши и черная челка ломовой лошади. Дедушка, покачивая, несет меня на плечах.
— Приехали! — говорит он и осторожно, чтобы не испачкать своего белого, в голубую звездочку пикейного жилета, ставит меня на плиты дорожки…
Старинная дверь парадного с двумя овальными окнами. На третьем этаже была квартира Суриковых.
Когда родился мой брат — это было уже в Москве, в Левшинском переулке, — родители выселили меня на время к дедушке в Леонтьевский. Теперь это улица Станиславского. Здесь было очень хорошо — вольготно. Спала я в комнате у тетки Лены, а играла везде, где хотела.
Интереснее всего было у дедушки в мастерской. Я хорошо помню эту комнату. Там была белая, страшно высокая кафельная печка, узкая дедушкина постель, большой сундук с его этюдами; на столе, если подняться на носки, можно было увидеть массу интересных вещей — карандаши, угольки, коробочки, ящички с красками, свертки бумаги, громадные книги. Стоял в комнате мольберт. На стене висели две репродукции, они всегда были с дедушкой, где бы он ни жил потом. Сначала они были для меня стариком в шапке и белом фартуке с кружевами, а на второй картинке — женщиной с ребенком, ходившей по облакам. Потом я уже знала, что первый был «Папа Иннокентий X» Веласкеса, а вторая — «Сикстинская мадонна» Рафаэля. Еще висело у дедушки на стене овальное зеркало в дубовой резной раме — он смотрелся в него, когда писал автопортреты. Стулья в комнате были легкие — венские, а на подоконниках ютились пакетики с сушеной смородиной, черемухой и урюком. Эти пакетики всегда притягивали мое внимание. Полезешь, попробуешь, а черемуха сухая, горькая, невкусная, — удивительно, почему дедушка ее так любил?
В притолоку двери были ввинчены два крюка, на них висели мои качели с перекладинами. И вот я качаюсь между мастерской и гостиной. А дедушка сидит на стуле, играет на гитаре, и мы поем вместе:
Я вывожу верха, дедушка, легко притопывая в такт ногой, подтягивает второй голос:
Небольшими красивыми руками дед перебирает струны гитары — чисто, негромко, чтобы не заглушать меня. Качели летают, а мы в самозабвении выводим:
Дедушка с юмором подтягивает и весело подмигивает мне:
Оба хохочем. Вдосталь насмеявшись, дедушка начинает играть какую-нибудь казачью плясовую. Я качаюсь. Тихонько поскрипывают кольца качелей,
Вылетаю в гостиную, где на стене висит дедушкина «Итальянка на римском карнавале». Качели, взлетев, мгновение стоят в воздухе, и я близко вижу улыбающуюся красавицу в блестящем розовом 'атласе. Она подняла руку в белой перчатке и вот-вот бросит прямо в меня букет цветов. Но качели падают, и я улетаю от итальянки к дедушке. Он сидит с гитарой и, притопывая в такт, выводит «барыню» с переборами. Вот он уже подо мной, глядит вверх и смеется. И я снова лечу к итальянке, сейчас поравняюсь с ней, она сверкнет улыбкой, замахнется букетиком, а я улечу к дедушке, который ждет меня, припевая: