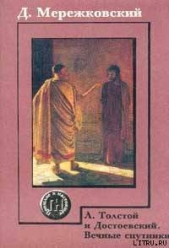Достоевский
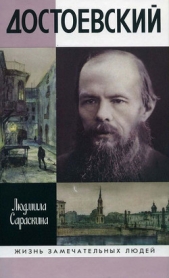
Достоевский читать книгу онлайн
"Достоевский таков, какова Россия, со всей ее тьмой и светом. И он - самый большой вклад России в духовную жизнь всего мира". Это слова Н.Бердяева, но с ними согласны и другие исследователи творчества великого писателя, открывшего в душе человека такие бездны добра и зла, каких не могла представить себе вся предшествующая мировая литература. В великих произведениях Достоевского в полной мере отражается его судьба - таинственная смерть отца, годы бедности и духовных исканий, каторга и солдатчина за участие в революционном кружке, трудное восхождение к славе, сделавшей его - как при жизни, так и посмертно - объектом, как восторженных похвал, так и ожесточенных нападок. Подробности жизни писателя, вплоть до самых неизвестных и "неудобных", в полной мере отражены в его новой биографии, принадлежащей перу Людмилы Сараскиной - известного историка литературы, автора пятнадцати книг, посвященных Достоевскому и его современникам.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он учился быть терпеливым. Старался не заглядывать в завтрашний день. Твердил о годах, которые, быть может, не пройдут бесплодно. «Нельзя ли мне через год, через 2 на Кавказ, — все-таки Россия!.. Ведь позволят же мне печатать лет через шесть, а может, и раньше. Ведь много может перемениться, а я теперь вздору не напишу... Время для меня не потеряно...»
В январе 1854-го ему шел тридцать третий год.
Планы вхождения в новую жизнь были такими же, как и 15 лет назад. «Одна моя цель быть на свободе. Для нее я всем жертвую» — это писал в стенах училища семнадцатилетний юноша, который просил у родных немного денег, чтобы иметь немного книг. Теперь он просил о том же. Он снова начинал с нуля, но для бывшего каторжника все было куда горше и безнадежнее. «Мне нужно денег и книг... Знай, брат, что книги — это жизнь, пища моя, моя будущность!» «Не забудь же меня книгами, любезный друг», — писал он брату, от которого не имел ни строчки более четырех лет («ты мне доставил этим много и эгоистического горя»).
«Знай только, что самая первая книга, которая мне нужна, — это немецкий лексикон», — напоминал он Михаилу — и кто, как не Mich-Mich, должен был догадаться, что брат надеется вернуться в профессию по сценарию их общей молодости, начав с переводов? Правда, теперь он просил прислать не Бальзака и Эжена Сю, а Канта и Гегеля: «С этим вся моя будущность соединена». Из Семипалатинска он повторит просьбу:
«Пришли мне европейских историков, экономистов, Святых Отцов, по возможности всех древних (Геродота, Фукидида, Тацита, Плиния, Флавия, Плутарха и Диодора и т. д. Они все переведены по-французски). Наконец, Коран и немецкий лексикон... Пойми, как нужна мне эта духовная пища!)».
Книги были посланы, но пропали, невостребованные, на почте: омскому чиновнику, на чье имя адресовалась посылка, не захотелось входить в сношения с бывшим каторжником. Переводы не состоялись.
Собственно говоря, в этом не было ничего нового — в молодости его планы тоже срывались, намерения менялись, «предприятия» терпели крах. Но сейчас было много хуже. Он страшно зависел от людей — от добрых и злых, от смелых и трусливых; от их благосклонности или произвола. Он боялся попасть к начальнику, который невзлюбит его, как Кривцов, и загубит службой. «А я так слабосилен, что, конечно, не в состоянии нести всю тягость солдатства», — жаловался он брату. Но так хотелось радоваться свободе — не брить половину головы, не носить десятифунтовые кандалы, не ходить с желтым тузом на спине. Участь рядового — со строевым учением, нарядами вне очереди, казарменной дисциплиной, подзатыльниками и зуботычинами, деревянными нарами и солдатской похлебкой — была, по сравнению с долей каторжника, почти счастьем.
Месяц, проведенный у Ивановых, позволил Достоевскому узнать новости о товарищах по эшафоту — и о тех, с кем расстался на плацу, и о тех, с кем простился в Тобольске. Узнал, что Филиппов, перед отъездом в Измаил, в арестантские роты, оставил для него у Набокова 25 рублей серебром. Добрая душа! Боялся, что товарищ начнет срок совсем без денег. «Все наши ссыльные живут помаленьку. Толль кончил каторгу, он в Томске и живет порядочно. Ястржембский в Таре кончает... Момбелли и Львов здоровы». То же касалось Плещеева и Головинского. Григорьев так и не оправился от душевной болезни. Слова из письма брату: «Петрашевский по-прежнему без здравого смысла» — намекали на драму человека, не способного мириться с реальностью (Б. В. Струве, адъютант Н. Н. Муравьева, посетив весной 1851 года Нерчинские заводы, встретился там с осужденными. «Начальник Шилкинского завода делал содержавшимся у него в заключении БуташевичуПетрашевскому и другим всякого рода облегчение их участи. Бестактность и недостаток деликатности со стороны Буташевича в пользовании этим снисхождением дали повод, что на это было обращено внимание высшего правительства в столице, вследствие чего последовало распоряжение о недопущении подобного послабления, которое имело вид глумления над строгостью закона» (Струве Б. В. Воспоминания о Сибири. 1848—1854. СПб., 1889. С. 110)).
«Чтобы убедиться, насколько обхождение с политическими ссыльными было гуманнее и мягче в Восточной Сибири, чем в Западной, — писал декабрист А. Ф. Фролов, — стоит вспомнить о горькой судьбе, доставшейся в удел Достоевскому и Дурову, сосланным в Омск, где они много лет несказанно томились в арестантской роте, когда в то же время Петрашевский с товарищами жили на свободе в Иркутске»17. Действительно, с начала 1851 года, как только из Нерчинского округа в Петербург поступили донесения о хорошем поведении осужденных, генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев добился, чтобы «его ссыльные» получали от родных письма, посылки, деньги. Спешнев, с «вернейшей оказией», откроет матери, что положение их группы гораздо легче, чем по приговору, и они только опасаются, чтобы это не разгласилось. В 1853 году в Александровском Заводе уже вовсю действовал пансион, имевший репутацию лучшего учебного заведения в Нерчинском округе для поступления в гимназии и женские институты. Горные начальники стремились отдать своих детей в обучение к каторжным учителям, платили им поурочно, освобождали от работ и принимали у себя как равных. И хотя в отчетах говорилось о режимном содержании преступников, жизнь не совпадала с отчетностью: став учителями, они селились на частных квартирах, имели заработок, чтение, досуг.
О жизни Спешнева, учителя Священной истории, русского и иностранных языков, которая текла не по каторжному, а по школьному расписанию, Ф. М., едва выйдя из острога, с восхищением писал брату: «Спешнев в Иркутской губернии, приобрел всеобщую любовь и уважение. Чудная судьба этого человека! Где и как он ни явится, люди самые непосредственные, самые непроходимые окружают его тотчас же благоговением и уважением...» Тот, кто в Сибири следил за судьбой Спешнева, явно порадовал омского каторжанина: как один из «благоговевших», Достоевский признавал факт покоряющего обаяния
Николая Александровича, способного быть объектом обожания везде и всегда. Похоже, его «чудная судьба» сбывалась: осужденный на десять лет каторги, он не испытал тягот каторжного труда; не знал грязи, вони и шума острога бок о бок с ворами и убийцами, был избавлен от ножных оков, арестантской куртки (донашивал свой петербургский сюртук, в котором стоял на эшафоте) и желтого туза на спине. Чаша «насильственного коммунизма», как называл острожную жизнь Достоевский, миновала его учителя, атеиста и коммуниста Спешнева.
Казалось бы, тот восторженный порыв, которому поддался Ф. М., стоя у эшафота четыре года назад, должен был давно изгладиться из памяти. После всего пережитого стоило ли помнить, как за минуту до казни он пытался поделиться спасительной мыслью о Христе со своим скептическим товарищем? Однако тот фантастический эпизод, длившийся всего несколько секунд, видимо, не был забыт, и в первые дни свободы Ф. М. нашел выход для «спасительной мысли», обратив ее к Фонвизиной. Их знакомству исполнилось четыре года, и все это время через неведомый тайный канал велась переписка (уцелело всего по одному письму с каждой стороны).
Достоевский писал женщине-легенде, ангелу-хранителю многих узников: «С каким удовольствием я читаю письма Ваши, драгоценнейшая Наталья Дмитриевна! Вы превосходно пишете их, или, лучше сказать, письма Ваши идут прямо из Вашего доброго, человеколюбивого сердца легко и без натяжки». Письмо Фонвизиной от 8 ноября 1853 года (то самое, на которое ответит зимой 1854-го Достоевский) — это страстная исповедь. Фонвизина рассказывала о той поре своей жизни, когда ей довелось испытать полное земное счастье; и о той поре, когда ей выпало беспредельное, неукротимое горе; и о том, как хваталась она за любую неприятность или болезнь, лишь бы они отвлекли ее от убивающей печали. Она горевала, как холодно после ссылки приняла изгнанников Россия (Фонвизины вернулись домой в мае 1853-го). Сердечный тон, естественность и откровенность Фонвизиной вызывают у Достоевского ответное желание — открыть ей свои сокровенные мысли о смысле бытия, о вере и истине, об очищении души страданием, о нравственной силе, способной одолеть жизненные испытания и просветлить душу.