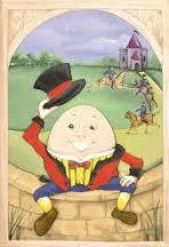Человек с яйцом. Жизнь и мнения Александра Проханова
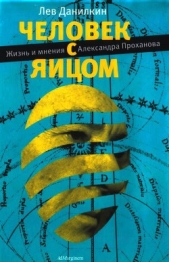
Человек с яйцом. Жизнь и мнения Александра Проханова читать книгу онлайн
Еще в рукописи эта книга вошла в шорт-лист премии «Большая книга»-2007. «Человек с яйцом» — первая отечественная биография, не уступающая лучшим британским, а Англия — безусловный лидер в текстах подобного жанра, аналогам. Стопроцентное попадание при выборе героя, А. А. Проханова, сквозь биографию которого можно рассмотреть культурную историю страны последних пяти десятилетий, кропотливое и усердное собирание фактов, каждый из которых подан как драгоценность, сбалансированная система собственно библиографического повествования и личных отступлений — все это делает дебют Льва Данилкина в большой форме заметным литературным явлением.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И вот этот человек пригласил его на свой юбилей, прислал в Союз писателей письмо, где отдельной строкой был упомянут Проханов, которого он хотел бы видеть. Для читателя с хорошим воображением это выглядело так, будто умирающий вожак стаи выбрал наследника. Не понимая, как такое может быть, Проханову позвонили из аппарата СП, сообщили ему о требовании Шолохова, и они поехали в Вешенскую. В купе были писатель Михаил Алексеев, главный редактор журнала «Москва», и Егор Исаев, поэт, лауреат Ленинской премии. Они делали вид, что ничего особенного не произошло, и мирно пили с ним водку, но иногда посматривали на него «как-то диковато», поскольку тот нарушил табель о рангах. Что он там делал? «Я, например, видел, как скворец перелетел через ограду шолоховского дома. Я шел по берегу Дона…» Ok, а Шолохов-то? «Когда я оказался на юбилее, я увидел маленького человечка, ослабевшего, ничем не напоминавшего рубаху-парня, с таким сахарным запястьем, которое вот-вот должно было обломиться, он молчал, а вокруг него бушевали гигантские мужики: секретари обкомов, генералы, налитые коньяком, гемоглобином, директора атомных заводов, начальники округов, все мечтали с ним чокнуться. У него уже были кризы гипертонические, он уже умирал, и он просто молчал и так держал рюмочку. Как такой Будда. Они все теснились, я все боялся, что они его затопчут, слоны. Я издалека смотрел. Просто стоял и пил коньяк. Вдруг ко мне подбежал Верченко (секретарь СП по организационно-творческим вопросам. — Л. Д.): ты чего не идешь? Я последним подошел и чокнулся. Видел его глаза, наполненные слезами. Больше ничего, ни слова. Но тем не менее это был знак».
В самом начале 80-х Союз писателей предоставляет Проханову — «за мои военные подвиги» (улыбка) — жилплощадь на Тверской, где раньше квартировал Ираклий Андроников, а до него Исаковский; в начале нулевых ее посетит писательница Козлова и при осмотре найдет еще несколько поводов вытереть о Проханова ноги в своем романе «Открытие удочки». В тот момент самым наглядным образом происходила ротация писательских элит: Союз писателей СССР построил несколько домов для писателей в районе проспекта Мира, и недавно обласканных государством литераторов селили туда, в стометровые квартиры. Сталинские территории — дом на Тверской и в Лаврушинском, наоборот, освобождались. Их предоставляли писателям, которые были с точки зрения тогдашнего Союза самыми перспективными.
С балкона этой квартиры в день похорон Брежнева они наблюдали траурное шествие. Андрей, младший сын, которому тогда было лет десять, стоял рядом с отцом и, по его словам, поинтересовался, хорошим ли человеком был Брежнев, на что Проханов якобы ответил: «Он был плохой менеджер» (слова «менеджер» Андрей не знал, и ему показалось, что отец произнес «рэйнджер», поэтому долгое время крушение империи в его сознании связывалось с недостаточной компетентностью Брежнева в качестве рэйнджера).
С чем связана была для него смерть Брежнева? «Ничего такого из того, о чем теперь говорится. Было некое возбуждение, любопытство: меняется строй, люди новой формации. Я до сих пор помню репортаж о его погребении с Красной площади: последнее, что показали, — камера ушла от могил, она взяла башни кремлевские и множество ворон, черных, страшных, и некоторые летели очень близко от объектива — и вот эта метафора мне запомнилось, такие знамения — древние, библейские, как затмение Солнца. Но мы же тогда все были достаточно ироничны, никакой апологетики Брежнева не было, все устали от этого».
Да, он рассказывал анекдоты про Брежнева, другие хохмачи пародировали генсека, «чувствовалось, конечно, что идеология — точнее, агитпроп, который транслировал эту идеологию мертвым малоинтересным языком, — стух, он не понимал, в чем красота государства советского, не мог ничего предложить. Я думаю, если б он заговорил языком Хлебникова, если б он вернул такие термины, как „будетляне“, если б возник авангардный подход, стимуляция в человеке грядущего, а не настоящего, то это был бы выход для определенной части интеллигенции. Я даже думаю, что их диссидентство — скажем, Евтушенко, Вознесенского, — заключалось в том, что они хотели очеловеченного социализма, одухотворенного коммунизма, с человеческим лицом. И если бы агитпроп предложил им эту коммуникацию — не им даже, а стране в целом, — то они бы из диссидентствующих превратились в социалистических лидеров. Так что смерть Брежнева не была, для меня во всяком случае, ударом».
Примерно в это же время, 81–82-е годы, ему предлагают вести в Литинституте творческий семинар для молодых писателей. Он соглашается, ему лестно, особенно потому, что он вернулся «в те же помещения, где молодым робким человеком разливал чай из самовара профессорам — теперь уже как кумир, как мэтр». Он посвящает этому полтора года. «Один выпуск у меня был целиком, второй наполовину, Киму передал. Я был входящим в силу, в моду писателем, меня пригласили вести этот курс. И для меня это был интересный опыт: молодая аудитория, я любил витийстовать, я любил их очаровывать».
— В каком жанре проходили семинары?
— Их было пятнадцать-семнадцать человек, они приносили свои творения, рукописи. Я их брал домой, говорил: такого-то числа мы слушаем такого-то. Все говорили, и потом я делал резюме. Я был авангардным человеком, старался в их упаднический, минорный дух втолкнуть авангард, государство, строительство, волю, сопротивление, технократизм. А у них все тексты были абсолютно декадентские.
Можно только предполагать, какие чувства он вызывал у этой публики. Это самые горячие для него годы, он не вылезает из боевых походов — Афганистан, Никарагуа, Ангола, Кампучия (впрочем, он и сейчас, посиживая на печи, очаровывает всех, кто может пользоваться его обществом). Может ли он оценить степень своей популярности? «Потом эти семинаристы встречались со мной, говорили, что были благодарны мне не за методику, а за энергетику; эта энергия, экспрессивность была им очень важна». Очень похоже на правду. «Еще что? Там были обожанье, студентки, молодые барышни, все такое. Святая тайна. Мне этот период нравился. Мне нравилось щеголять, властвовать умами, царствовать… Потом я проговаривал какие-то вещи… речь шла о стилистике, о методике, как сочетать сказуемое с подлежащим, что такое образ, как создать метафору, тогда у меня были определения на все это, это было необходимо. Я импровизировал, я создал свою сиюминутную теорию изящной словесности. Все было пропитано обожанием, восторгом, эти вещи говорились не всему семинару, а кому-то одному из них. Эти обсуждения побуждали меня рассказывать о психологии моего собственного творчества. Я рассказывал, как пишется роман, что в романе есть несколько биофизиологических фаз, которые испытывает на протяжении всего писания художник».
«К этим семинарам я не готовился — импровизировал. Меня провоцировала среда, люди. Это всегда было интересно. Там много было бреда, открытия не абсолютные, а сиюминутные, они не пригодились, но хороши были тем, что это была кухня отдельно взятого художника, абсолютно несъедобная для моих слушателей. Никто ею не воспользовался. Я же был белой вороной». — То есть учеников так и не возникло? — «Ни у кого нет учеников. Случайное соприкосновение преподавателя с аудиторией. Учителями становятся через несколько поколений, возникает ощущение школы». — Я полагаю, у Битова есть ученики. — «У Битова? Кто — назови. Битова можно воспроизводить только на уровне дохи».
Может ли он вспомнить что-нибудь о литинститутском образе жизни? «Очень часто мои ученики попадали в какие-то истории, какие-то пьянки, их выгоняли, я ходил к ректору, хлопотал за них. У меня было ощущение гнездовья, куда я отложил много яиц, из которых вылупилось много птенцов. У меня были сердечные отношения, молодая аудитория. К сожалению, как ни странно, эти люди не состоялись. Из моих семинаристов пробилась только одна Света Василенко. Как всегда с зернами — одно падает на камень, другое склевывает птица. Видимо, очень большой в природе отбор среди художников. Много званых, но мало избранных. Быть художником — это марафон. Вбрасывается огромное количество людей, и на разных этапах происходит непрерывный отсев. В моем поколении мало людей бегут со мной рядом. Хотя, может быть, я лежу на канапе, а дорожка бежит. Представляете? Четырехногое канапе! Иноходью. А я, как Артем Троицкий, лежу и курю кальян».