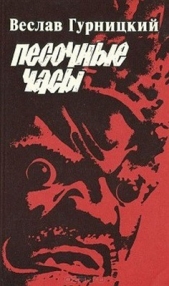Песочные часы

Песочные часы читать книгу онлайн
Автор книги — дочь известного драматурга Владимира Масса, писательница Анна Масс, автор многих книг и журнальных публикаций. В издательстве «Аграф» вышли сборники ее новелл «Вахтанговские дети» и «Писательские дачи».
Новая книга Анны Масс автобиографична. Она о детстве и отрочестве, тесно связанных с Театром имени Вахтангова. О поколении «вахтанговских детей», которые жили рядом, много времени проводили вместе — в школе, во дворе, в арбатских переулках, в пионерском лагере — и сохранили дружбу на всю жизнь.
Написана легким, изящным слогом. Будет интересна самому широкому кругу читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А что же ты любишь? — спрашивала я.
— Тебя люблю, — отвечал он, но это уже не кружило голову, как будто он дарил мне прочитанную мною книгу.
Может, причина и не в том, что он не читал Флобера. Я и сама не сумела одолеть «Мадам Бовари», малодушно перескочив через середину сразу в конец.
Володя отслужил мне, вот в чем причина.
Тщеславие мое было удовлетворено — уже оба девятых класса знали, что я «гуляю» с мальчиком. А главное: если я ему нравлюсь, значит, я вообще могу нравиться мальчишкам. Даже тем, которые мне самой нравятся.
Он продолжал мне звонить, и у него был грустный голос, когда он предлагал:
— Давай сегодня встретимся?
— Мне заниматься надо! — отвечала я. — У нас завтра сочинение!
— Но, может быть, вечером, попозже?..
Иногда я уступала, и мы гуляли, но эти прогулки были для меня как нудная повинность. Мне стало с ним неинтересно, вот и всё!
Наконец, в ответ на его очередное приглашение пойти погулять я сказала:
— Пойми, я больше вообще не хочу с тобой встречаться!
— А я очень хочу, — ответил он.
— Послушай, у тебя есть хоть капля мужской гордости?
— Нету, — ответил он.
— Мне другой мальчишка нравится, понял? — сказала я. — И больше мне не звони!
Я бросила трубку и долго сидела у телефона. Все-таки ждала, что позвонит. Нет, не позвонил.
В те дни
Со всех домов смотрели его портреты в траурном обрамлении. При одном взгляде на эти черные рамки и ленты невозможно было удержать рыдания. Душу и тело сотрясала чудовищная непостижимость события.
Что теперь будет?! Как же мы будем — без него?!
Уроков, конечно, не было. Плачущие учителя ходили по коридорам и не делали нам замечаний. Какие замечания, когда случилось такое!
Я вошла в класс и рухнула на свою парту — вторую в среднем ряду, с моими именем и фамилией, выцарапанными бритвой на внутренней стороне откидной крышки. Хоть за что-то уцепиться в этом кораблекрушении!
Всех созвали на траурную линейку.
Мы выстроились на втором этаже в две шеренги — восьмые, девятые и десятые. Шеренги колыхались от рыданий. У стены стояли заплаканные, не похожие на себя учителя. Над их головами висели портреты писателей-классиков с такими лицами, словно и они разделяли нашу скорбь. В глазах Чернышевского застыл вопрос: «Что делать?»
Вперед вышел историк Анатолий Данилыч. Он был в военной форме, на груди — ордена и медали.
— Товарищи! — произнес он.
Линейка ответила дружным воем.
— Тихо! — скомандовал Анатолий. — Приказываю успокоиться! Смирно!
Окрик подействовал. Стало тихо, если не считать отдельных непроизвольных всхлипов.
Анатолий заговорил о том, что в эти трагические дни наша главная задача — не распускаться, не раскисать, не дать горю взять над собой верх, а наоборот, собраться с силами, взять себя в руки, относиться к себе и к другим с повышенной бдительностью. Ибо затаившиеся враги именно теперь поднимут головы, постараются воспользоваться нашей растерянностью.
По мере того как он говорил, линейка подтягивалась, выпрямлялась. Жесткие, мобилизующие слова учителя, фронтовика, коммуниста приносили облегчение своей ясно поставленной целью, вселяли уверенность, что жизнь еще не кончена, впереди — борьба с врагами, но им нас не сломить!
На правом фланге произошло какое-то движение, суета. Потом две восьмиклассницы проволокли третью, держа под руки. У третьей моталась голова, косы подметали пол.
Нас отпустили домой.
Дома потрясенная мама ходила из угла в угол, заламывала руки и задавала в пространство все те же вопросы: что делать? Что теперь будет? Тут был, кроме риторического, еще и конкретный смысл: что будет со мной, ее дочкой? В этом году мне заканчивать школу и поступать в институт. В какие двери маме стучаться, чтобы меня с моей фамилией хоть куда-нибудь приняли? Газеты и журналы полны разоблачительных статей о «Пинях из Жмеринки» и всяких Авербахах, скрывающихся за русскими псевдонимами. Но это цветочки по сравнению с арестом врачей-отравителей, большинство из которых, как назло, евреи. Ужас! Это же тень на всю нацию! Еще недавно у мамы была надежда, что он разберется, кто виноват, а кто невиновен, и восстановит справедливость. Но он умер, и волосок, на котором висела мамина надежда, оборвался.
Уроков не было и на следующий день, но потрясение первого дня чуть-чуть ослабело, размылось, вошло в русло и потекло в общем потоке, где кроме горя и растерянности начали оживать обычные чувства и мысли. И среди них — тайное удовольствие от того, что нет уроков, опросов, контрольных. И стыдливая мыслишка, что чем активнее мы будем проявлять свое отчаянье, тем дольше продлится передышка. Нет, в принципе, конечно, надо собраться с силами и взять себя в руки, но может быть, не сегодня, а с понедельника.
В классе, слева от доски, висел плакат, безотказно действующий на слезные железы: вождь поднял на руки девочку с букетом цветов. Мудрый прищур, отеческая улыбка, гроздья салюта, ликующие лица вокруг. «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»
Неужели его нет больше?! И не подбежит к нему девочка с цветами, и не подхватит он ее своими добрыми… отцовскими… И напрасно вы заглядываете в класс, Георгий Нилыч, да еще с журналом под мышкой! Как вы можете в такой день — о какой-то алгебре!.. Разве вы не видите, как мы стр-р-адаем?!
Плакат этот повесили в классе перед годовщиной Октября. Мы оставались после уроков, клеили бумажные цветы для демонстрации. Пели хором про глобус, который «крутится-вертится, словно шар голубой». Наташка Белоусова рассказала, как в прошлом году ходила с дедушкой на майскую демонстрацию и видела его на трибуне мавзолея.
— А вдруг и мы увидим, — мечтали мы.
— Но если будет дождь, — сказала Слайковская, — то лучше ему не выходить на трибуну. А то простудится.
Все как-то даже сконфузились. Слайковская вечно ляпнет. Простудится — он! Неприлично даже представить, что он может сморкаться как обычный человек.
В ту осень чудо произошло — мы его увидели. Он вышел на трибуну как раз в ту минуту, когда наша колонна проходила мимо мавзолея, поднимая вверх бумажные цветы. Он был в фуражке и простой серой шинели, застегнутой под горло. Самый скромный из всех, кто стоял справа и слева от него. Он неторопливо поднес руку к фуражке, приветствуя нас. О-о, что это была за головокружительная, сумасшедшая, самозабвенная минута, исторгшая из наших глоток вопль ликования! И потом, когда мы возвращались домой вдоль стены Кремля, по набережной, по Лебяжьему, по Волхонке, волоча по асфальту уже ненужные бумажные цветы, при одном лишь воспоминании о скромной фигуре, об этой неторопливой руке, поднесенной к фуражке, нас сотрясало жаркое чувство восторга. Мы пели хором: «…О Сталине мудром, родном и любимом прекрасную песню слагает народ!» И другую: «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полёт!..» И третью: «Артиллеристы! Сталин дал приказ!» И четвертую, и пятую — песен хватило до самого дома.
— Мама! — слышу я свой ликующий крик. — Мы видели Сталина!!!
И мамино ответное, счастливо-ошеломленное:
— Что ты говоришь!
Хотя мама могла и подыграть — она была все-таки актрисой. Чувство, которое она испытывала к вождю, было смесью страха, благоговения и веры. Мама говорила: «Он всё может!» — вкладывая в эту фразу, как мне казалось, светлый, позитивный смысл. Она считала, что «он не знает всего», что «ему не говорят», что если ему написать и письмо попадет в его руки — он восстановит справедливость.
Папа, отбывший десятилетнюю ссылку, — факт, который от меня тщательно скрывался, хотя что-то иногда проскальзывало в разговорах, — не строил иллюзий. Иногда, в ответ на мамино «ему не говорят», он выходил из себя и выплескивал что-нибудь такое немыслимое, не лезущее ни в какие ворота, что я только хохотала, принимая это за неприличную шутку. Мама тут же испуганно и гневно затыкала ему рот фразами типа: «Тебе что, опять захотелось?» или: «Ты что, с ума сошел? Она же пойдет в школу и всем расскажет!»