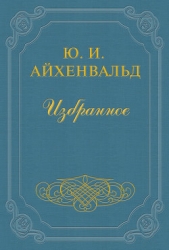Стоило ли родиться, или Не лезь на сосну с голой задницей
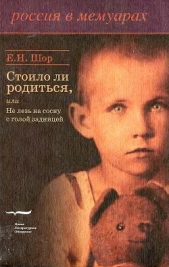
Стоило ли родиться, или Не лезь на сосну с голой задницей читать книгу онлайн
Взросление ребенка и московский интеллигентский быт конца 1920-х — первой половины 1940-х годов, увиденный детскими и юношескими глазами: семья, коммунальная квартира, дачи, школа, война, Елисеевский магазин и борьба с клопами, фанатки Лемешева и карточки на продукты.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На мою пенсию жить втроем было невозможно. Институт иностранных языков купил (как мне сказали позднее, по инициативе Ю. М. Соколова [144]) мамину библиотеку за 25 тысяч рублей. Я благодарна тем, кто это сделал: возможно, они спасли мне жизнь. Вместе с тем, что было у мамы на сберкнижке, что дала продажа чернобурой лисы, неполученная зарплата и гонорары (похороны происходили за счет Института языка и мышления), получилось 40 тысяч. Дядя Ма рассчитал, что, для того чтобы этих денег хватило мне до окончания образования (предполагалось, высшего), можно брать с книжки 400 рублей в месяц. Жизнь должна была стать намного беднее, чем при маме. Мария Федоровна заявила, что будет давать уроки музыки (она уже выяснила, что частные уроки не облагаются налогами). Мария Федоровна не хотела зависеть от того, что считала благорасположением дяди Ма. Ей было уже 70 лет.
Сослуживица мамы, Мария Петровна Якубович, приняла большое участие во мне, в нашей жизни. Она приходила к нам и приглашала к себе домой в Москве, на Солянку, и на дачу в Малаховке. Я увидела ее дочь Таню, младше меня на четыре года, плотную и не очень подвижную девочку, розовощекую, с большими серыми глазами, румяным ртом и вьющимися темными волосами, она показалась мне необыкновенно красивым ребенком — такие бывали на дореволюционных открытках, — самым красивым ребенком на свете. Я видела также старшего сына Марии Петровны, болезненного вида юношу с мелко вьющимися русыми волосами, и услышала удивительную историю этих волос: в детстве у Коли был стригущий лишай, отчего он стал совсем лысый, и никто не мог его вылечить, пока не появился какой-то китаец, давший мазь, от которой волосы быстро выросли и закудрявились.
Странное дело: у людей были другие вкусы, чем у меня. Мария Петровна и Таня были очень довольны своей дачей в Малаховке, а я не понимала, что в ней хорошего, все место состоит из дачных участков, нет ни леса, ни реки.
«Немка» Елизавета Федоровна дозанималась со мной до конца этого учебного года, и ей было отказано, за недостатком у нас денег. Я видела, что отказ ее расстроил, она, видимо, тоже нуждалась в деньгах. А жаль — я только-только начала входить во вкус этих занятий, которыми раньше скорее тяготилась, жаль, что и мама не видела, что занятия стали мне нравиться. Говорить по-немецки стало легко, не нужно было ворочать где-то тяжелые камни-жернова, чтобы вышла на свет фраза, а в конце каждого урока мы читали книгу про девочку, романтически смотревшую на закаты, и у меня в памяти появлялось Хорошево, закат в Хорошеве.
Воспоминаний у меня всегда было много, а мир-то сильно менялся. Исчезли крики во дворе: «Чинить-паять, тазы, ведра, корыта починяем», «Старье берем» («а новое крадем», — добавляла Мария Федоровна), не стало шарманщиков. Весна в Москве с чищеными тротуарами и асфальтированными улицами без лошадиного навоза не была уже такой, как прежде. Правда, весной, в определенный день, Наталья Евтихиевна покупала утром в булочной «жаворонка» из плетеного теста и с глазами-изюминками. Она приносила его ко мне, «клевала» меня его запеченным носиком и оставляла у меня на постели. Эти жаворонки не были вкусными, но съедались с набожной радостью. Тут было и недетское — потерянный рай, рай, который остался позади.
Я не заметила, что с маминого стола исчезла белая каменная собачка, подаренная маме дядей Ма. А Мария Федоровна заметила и сказала мне: «Скажи дяде Ма, чтобы он вернул собачку». Как мне не хотелось говорить с ним об этом (хоть и стало жалко собачку, когда я увидела, что ее нет), но я не могла не послушать Марию Федоровну. При случае я сказала: «Дядя Ма, зачем ты взял собачку с маминого стола?» Дядя Ма покраснел и со страшно напряженным видом принес ее. Для Марии Федоровны это было торжество, для меня унижение. Не знаю, зачем дядя Ма взял собачку, может быть, она ему так нравилась, что он жалел, что подарил ее. Сказал ли он при этом что-то про память о маме? Может быть, действительно нехорошо было взять эту собачку потихоньку, лучше было попросить. Или он думал, что я под влиянием Марии Федоровны откажу ему, что было вполне вероятно.
Дядя Ма предложил для «уплотнения» свою давнюю знакомую по работе Елену Николаевну Бокову или ее сестру Елизавету Николаевну. Марии Федоровне был предоставлен выбор (и я присутствовала при этом): к нам пришли обе сестры. Елена Николаевна была старше, с длинными волосами, уложенными в «пучок» (хотя это не «пучок», а свернутые кольцами и заколотые шпильками волосы) на затылке, в очках и в костюме с белой блузкой и с черным галстучком. У нее было большое лицо с неприятной неправильностью в подбородке (от перенесенной в молодости операции). Елизавета Николаевна была моложе, высокая и прямая (я потом разглядела, что у нее очень длинная спина и короткие для ее роста ноги), со стрижеными кудрявыми волосами, у нее было более красивое лицо, чем у Елены Николаевны, глядела она не то чтобы дерзко или озорно и не то чтобы свысока или шаловливо, но все-таки не так деловито-скромно, как ее старшая сестра. Мария Федоровна испугалась, что она заведет себе кавалера или мужа, и выбрала Елену Николаевну.
Елена Николаевна не жила постоянно у нас, а приходила ночевать или присылала младшую из сестер, Татьяну Николаевну, которой было 29 лет, или еще более молодого племянника, его они называли Николушкой. Оба они учились в институтах и приходили заниматься, готовиться к экзаменам. Елена Николаевна была очень доброжелательна ко всем, Татьяна Николаевна отвечала вежливо, но дичилась. Они, видно, побаивались Марию Федоровну и чувствовали себя принужденно. Елена Николаевна старалась преодолеть отчужденность, а Татьяна Николаевна рассказывала потом, что ей бывало грустно в этой комнате и утешал ее наш мишка из папье-маше, которого она заставляла кивать головой.
Прежде чем книги продали институту, их разобрали. Для этого были присланы двое, один — студент, другой, постарше, аспирант или научный сотрудник. Дядя Ма руководил ими, говоря: сегодня надо сделать то-то и то-то. Мария Федоровна возмущалась такой эксплуатацией бесплатной рабочей силы. Особенно много, целыми днями, трудился студент. Аспирант (Майзель) был в очках, очень румян и говорил очень громко, потому что был глуховат. Он чувствовал себя непринужденно, ему нравилось разговаривать с Марией Федоровной. Студент (Энвер Ахметович Макаев) был молчалив и держался с врожденным достоинством. К нему у нас обращались по имени-отчеству, несмотря на его молодость. Он был восточный юноша с кожей цвета слоновой кости, с твердым, орлиным носом и большими, чуть выпуклыми глазами, хрупкий и немного несчастный на вид, во всяком случае я его жалела без других на то причин [145].
Евдокия Михайловна Федорук [146], тоже мамина коллега, много хлопотала в связи с организацией похорон мамы, во всяком случае, у меня она все это время была на виду. После похорон дядя Ма отнес одну корзину цветов Евдокии Михайловне в качестве подарка, что было бестактно, и она была этим возмущена. Евдокия Михайловна была из крестьян. Она рассказала мне, что была прислугой в крестьянской семье и было ей так плохо, что четырнадцати лет она повесилась, но ее вынули из петли, и она осталась жива.
Потом она служила у известного ученого, он заметил ее способности и дал ей возможность учиться. Евдокия Михайловна подчеркивала свое народное происхождение простоватостью речи и интонации. Она была партийная и очень советская, но Мария Федоровна нашла с ней общий язык, что меня удивляло.
После смерти мамы некоторые девочки в школе смотрели на меня соболезнующе, но никто ничего мне не говорил. Только Вета Тарабрина сказала мне что-то в утешение, по-взрослому, и так тепло, что я почувствовала к ней доверие, которое уничтожило стену, отделявшую то, что мне было дорого, от чужих ушей, и я спросила: «А ты волков любишь?» Вета рассказала об этом своей матери, а та сказала, что я не совсем нормальная девочка.