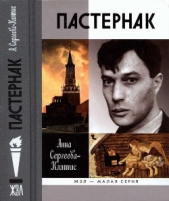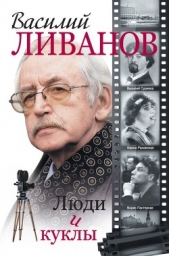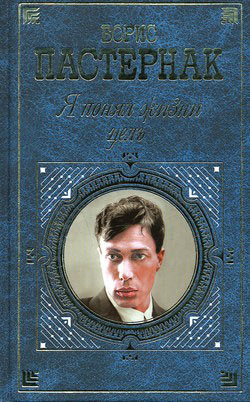Годы с Пастернаком и без него

Годы с Пастернаком и без него читать книгу онлайн
Свою книгу «Годы с Борисом Пастернаком» Ольга Ивинская завершает словами: «Любимый мой! Вот я кончаю работу, завещанную тобой. Прости меня, что написала ТАК; я не могла и никогда не смогла бы написать на уровне, которого ты достоин… Большая часть прожитой сознательной жизни была посвящена тебе, как будет посвящен и ее остаток…»
В этой книге впервые объединены мемуары О. Ивинской (в сокращенном виде) и ее дочери И. Емельяновой о Борисе Пастернаке. В книгу также вошли воспоминания Ирины Емельяновой об Ариадне Эфрон, о Варламе Шаламове. Впервые публикуются эссе «Парижские этюды» И. Емельяновой и фрагменты из ее «Записных книжек».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда очередь дошла до хлопушек, все были уже порядочно пьяны — не столько от шампанского, сколько от возбуждения. Пели, передразнивая Шеве, «О Танненбаум, Танненбаум…». Б.Л. лучше всех и громче всех. Жорж вспомнил французские застольные. Мать затянула, конечно, «Стеньку Разина»… В моей хлопушке оказалась ватная редиска, мама прокомментировала ее как изображение моей первой трагической любви — и каким вдруг бесконечно ничтожным и далеким показалось мне недавнее горе! Матери достались усы — конечно же мы расценили их как привет от усатого Фельтринелли, в симпатиях к которому мы ее подозревали, Б.Л. — щелкунчик, которым он с удовольствием щелкал и, уходя, бережно положил в карман. Вот только объяснения щелкунчику подыскать не удалось. Как и всегда, Б.Л., наш двурушник, поделил свое пребывание — до одиннадцати он был с нами, а потом, спохватившись, заспешил к себе, где уже ждали гости и — семья. Мы проводили его до поворота, как обычно, — у нас ведь тоже были свои границы, переступать которые не полагалось.
Но год, от которого мы так много ждали, начался довольно тяжело — очень сильно и опасно заболел Жорж. Каждый день я ходила к нему в больницу, носила передачи и письма. Б.Л. часто делал к моим письмам коротенькие сочувственные приписки. Пришлось уехать из Переделкина, и весну 1960 года я бывала там лишь наездами. Б.Л. видела мельком, последний раз — ослепительным мартовским днем, когда я заехала в деревню, чтобы забрать вещи Жоржа у его хозяев, — о возвращении к прежней жизни из-за его продолжавшейся болезни не могло быть и речи. Я столкнулась с Б.Л. на улице, он шел навестить мою бабушку, которая в ту зиму жила на даче.
В этот весенний день солнце действительно «грело до седьмого пота» — на снег было больно смотреть. Б.Л. щурился и вытирал слезы — темных очков он никогда не носил. Мы зашли к бабушке, немного посидели там — Б.Л. заметно обрадовался, что старики — бабушка и ее муж — так хорошо выглядят, так бодры и жизнерадостны. Как не любил он всяких напоминаний о смерти (он не стал даже смотреть номер «Пари матч» о похоронах Камю, поспешно свернул в трубочку мрачную средневековую картинку), так радовал его вид крепкой, здоровой старости. А в этом отношении моя бабушка представляла собой исключительное явление.
Среди вещей Жоржа оказывается кинокамера, и я, даже не зная точно, есть ли там пленка, снимаю на всякий случай сверкающие сосульки, под ними улыбающихся стариков, Б.Л., радостно приветствующего их и взбегающего на высокое крыльцо. Уже после смерти Б.Л. я обнаруживаю, что аппарат был заряжен — и наша последняя встреча в деревне не прошла бесследно.
И вот спустя месяц уже совсем последняя встреча — 17 апреля 1960 года у нас в Потаповском, в Светлое воскресенье, Пасху. Б.Л. пришел проводить Жоржа, который улетал на месяц во Францию для поправки — он еле ходил, бледный, осунувшийся, с трудом высидел прощальный завтрак, за которым Б.Л., веселый, загорелый, совершенно здоровый, произносил головокружительные речи.
В нашем переулке жила М. И. Сизова — детская писательница и хорошая знакомая Б.Л., к которой он также обещал зайти, совместив таким образом прощание с Жоржем и визит к своей верной давнишней поклоннице. Опасаясь, что у Магдалины Ивановны придется засидеться и он не сможет побыть с нами столько, сколько ему хотелось, Б.Л. попросил меня прибегнуть к маленькой хитрости — позвонить ей через двадцать минут и вызвать его якобы по срочному делу. Так и договорились. Когда я ровно через двадцать минут позвонила, Магдалина Ивановна сказала, что Б.Л. с мамой только что спустились вниз. Мы с Жоржем вышли на балкон, чтобы видеть, как по переулку шагает Б.Л., характерно размахивая рукой, — без пальто, с непокрытой красивой головой. Он заметил нас и стал делать какие-то знаки: оказывается, Сизова одарила его двумя крашеными яичками, которые по дороге полиняли, и пальцы у Б.Л. стали красными, как у индейца.
У нас в распоряжении были две бутылки «Клико», мы решили выпить одну, а вторую приберечь до возвращения Жоржа. Однако этого не случилось; Б.Л. разговорился — он говорил много, оживленно, интересно, — выпили одну, потом другую. «Я люблю твое будущее и вижу его», — говорил мне Б.Л. Однако он — и не в первый раз — предостерегал меня от многих разочарований: «Ты привыкла объяснять себе человеческую глупость советскими условиями, но там ты столкнешься с просто глупостью, просто низостью и неблагородством, и то, что они необусловлены, будет для тебя нравственным потрясением. Но я доверяю твоей судьбе». Он говорил, что любит Жоржа за обезоруживающую естественность, которую ставит очень высоко, наравне с одаренностью, и то, что произошло между нами, кажется ему естественным продолжением счастливых событий последних лет — выход романа, Нобелевская премия, мировое признание.
Мы встали из-за стола и перешли в другую комнату, усадив Жоржа на диван и обложив его подушками. И хотя Б.Л., как всегда, очень спешил, он просидел еще довольно долго, напав на мысль, которая, видимо, в то время очень его занимала. Он сказал, что хочет написать статью, или, может быть, новую книгу, или скажет как-нибудь об этом в пьесе, или — скорее всего — напишет кому-нибудь большое письмо о том, что так же, как сейчас нам дано понять человеческий смысл предшествующих культур, не всегда ясный современникам, так должно постичь и человеческую суть нашей цивилизации. Кажущаяся бесчеловечность современного искусства (тут он вспомнил позднего Пикассо), непомерность технического прогресса, одиночество и разобщенность современных людей — все это не может не иметь какого-то глубоко скрытого человеческого смысла, не может быть только тем, чем кажется. «Нет, в этом должен же быть какой-то смысл, должен!»
Вот и все. Таков был этот последний раз. Вернее, нет, не последний — я говорила с Б.Л. еще один раз, по телефону, в конце апреля, когда уже началась его смертельная болезнь. Он перемогал себя и первые дни, несмотря на сильную боль в плече, с которой все началось, еще сумел несколько раз пройти вечером до конторы и позвонить в Москву. Он так разительно изменился за первые же дни болезни, что нас охватило тревожное предчувствие. И вдруг, когда, как мы считали, он должен был лежать в ожидании врача, раздался звонок. Мама подошла к телефону, а я взяла отводную трубку и, хотя это было с моей стороны неделикатно и подобного я себе никогда не позволяла, подключилась к разговору. В ответ на вопросы матери о самочувствии он сказал далеким и слабым голосом: «Ну нельзя же жить до ста лет!» — и я, вдруг заплакав, закричала в эту отводную трубку: «Можно, можно!»
Больше он уже не мог ходить в контору. Мы ждали его звонка еще несколько дней, а потом решили поехать в Переделкино, чтобы быть поближе и попытаться хоть что-то узнать. Три мучительных дождливых первомайских дня мы с мамой провели вдвоем, почти не разговаривая и не выходя из Марусиной избы. Конечно, маму кидало от надежды к отчаянью. Хотя страшное предчувствие, усугубленное тем, что при последнем посещении Б.Л. принес ей рукопись пьесы «Слепая красавица» — прощальный дар, все больше укреплялось в ней, она цеплялась за каждый проблеск надежды: какие-то сны, мнения медицинских сестер, неточные слова врачей — и так до самого конца. «Ирка, как же мы теперь будем жить?» — вырвалось у нее как-то однажды. Имелось в виду — жить, когда Б.Л. не станет.
Неожиданно к концу третьего дня к нам пришел Кома Иванов и принес письмо от Б.Л. Принес он и диплом Бостонского университета — как наиболее ценную для себя вещь, Б.Л. посылал его нам. Письмо это нас просто оживило — оно было деловым, спокойным (врач нашел повышенное давление, стенокардию, расстроенную нервную систему, «придется вычеркнуть самое меньшее две недели из нашей жизни»), следовали обычные подробные распоряжения — насчет денег, перепечатки пьесы, даже приглашение Шеве, если нужно, посетить его. «Не огорчайся, — кончалось письмо. — Мы и не такое преодолевали».
Таких писем было несколько — их приносил либо Кома, либо Костя Богатырев, друг Б.Л., замечательный переводчик (позднее зверски убитый КГБ), через них же мама отправляла ответы. Но день 5 мая, кажется, был последним, когда к Б.Л. допускались посетители. Внезапно ему стало резко хуже. Собравшиеся на консилиум светила нашли обширный инфаркт.