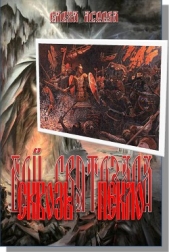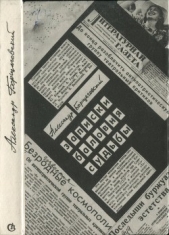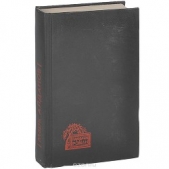Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки

Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Потаповы, только постарше нашего героя на десять, пятнадцать, двадцать, тридцать лет, явились истинными виновниками катастрофы, начавшейся в 1917 году.
Потаповы — офицеры в Петрограде и в Москве — отсиживались в октябрьские деньки семнадцатого года по квартирам, играли в преферанс и пили кофе. Они держали, как любили тогда говорить, нейтралитет, иными словами, — не вмешивались в события всемирной важности. Если они не понимали общего смысла происходящего, то обязаны были хоть позаботиться о своей судьбе. Одним мешали интеллигентские бредни, другим — нерешительность и робость, но большинство не хотело жертвовать собой. Такая позиция привела к поражению Временного правительства, разгрому юнкеров в Москве, разгону Учредительного собрания. Потаповы надеялись, что кто-то за них справится с горсткой сагитированных матросов и солдат из запасных полков, даже не обстрелянных или не успевших еще побывать на фронте. Но этого не случилось, а наоборот, их потащили в Чека, поставили к стенке или записали в Красную армию. Мобилизованные решили служить верой и правдой, иначе комиссар мог пристрелить или отправить в Чека, и таким образом на стороне красных добросовестно воевали офицеры, внутренне с отвращением и ненавистью относившиеся к своим хозяевам. В создавшейся ситуации о нейтралитете быстро забыли. Генеральный штаб российской императорской армии почти весь состоял из потаповых, и они перешли в генштаб Красной армии.
Огромной была прослойка потаповых среди деловых людей — банковских и прочих служащих. Не было бы их помощи — полный паралич охватил бы страну через несколько месяцев.
В последующие годы, когда страна ковала свою мощь, стремясь до зубов вооружиться, в специальных конструкторских бюро, состоящих из заключенных, разрабатывались лучшие образцы пушек, танков, самолетов, стрелкового оружия… Штурмом брали изобретатели бюрократические твердыни, пробивая дорогу своим бомбардировщикам, истребителям, ракетам, газам, бактериям… Их жалкие отговорки о том, что они вооружают родину и тем спасают ее от Гитлера, после войны заменились погудками о капиталистическом окружении и американском империализме. Но кто же они, эти помощники режима? Быть может, это исчадия ада, вампиры, демоны?.. О нет! В большинстве своем — это потаповы безбожного производства, расплодившиеся в огромном количестве. Ими набиты номерные засекреченные институты, специальные военные опытные заводы, работающие на военную промышленность. За ничтожную премию они стремятся родить рационализаторские предложения, сделать открытия военного значения. Они думают о диссертациях и научных степенях со всеми вытекающими материальными благами. И ради этого готовы продать душу черту.
Все, кто обеспечивает современные деспотии атомными и сверхводородными бомбами, баллистическими ракетами, а также прочим, пока неизвестным оружием массового уничтожения, должны осознать, что если они участвуют в разработке таких идей, то являются людоедами или потаповыми. В первом случае их не смущает перспектива уничтожения неповинных людей. Во втором случае им всё ясно, но они занимаются подготовкой массовых убийств из шкурнических интересов.
Но у потаповых огромное преимущество: по своей натуре они люди доброй воли, поэтому способны всё прекрасно понять и исправить своё поведение. Для этого покуда их страна — агрессор, захватчик и поработитель как своего, так и других народов, прежде всего, для её же блага, надо перестать её вооружать, а тем более — оружием массового уничтожения.
Стар и млад
Среди нас был двадцатидвухлетний американец — мулат, рожденный от брака еврея и негритянки. В Москве он что-то делал в американском посольстве, успел жениться, начал, кажется, предпринимать шаги для перемены гражданства, но в это время его «запутали» и дали двадцать пять лет. Специальности у него не было и держали его в отделе оформления, где он что-то научился клеить. Лицо у Мориса было темноватое, волосы курчавые, черные, под ногтями была заметна синева. О последней особенности мы до этого только читали, и нам было интересно увидеть это воочию.
С двадцатых годов нам вколачивали в головы, что негры в Америке существуют для того, чтобы их линчевали; потом оказалось, что этим занимаются только в южных штатах, а в лагере удалось познакомиться со статистикой, по которой в СССР количество блатных самосудов и убийств «проигранных в карты», за один месяц превышало жертвы Ку-клукс-клана за десять лет. Так или иначе, но все сходились на том, что негры еще не пользуются полностью свободами и правами американских граждан. Таким образом, сочувствие Морису было обеспечено, и тем не менее, он его как-то нарушал своим поведением и выходками, несколько выделяясь из нашей среды: например, нам казалось, что он слишком развязно и шумно вёл себя за обеденным столом.
Прославился он на всю шарашку, когда подал начальнику тюрьмы заявление в стихах с просьбой о новой паре ботинок. Замысел Мориса был приведён в исполнение Львом: в издевательском тоне презренный зэк Морис писал, что ему нужны не простые ботинки, а лишь такие, которые он не сумеет износить за свой пустяковый срок в двадцать пять лет. Он надеялся, что его сыновья и внуки тоже поносят эти замечательные ботинки. Даже на шарашке пары ботинок едва хватало на год, на общих работах срок носки исчислялся неделями — гротескность ситуации была вызывающей. Поэма заканчивалась так: «подписался удручённый, Морис Гершман — заключённый». Недели две Морис был героем дня, вызывал улыбки и как-то это сошло ему с рук.
В следующий раз своё свободолюбие он выразил совершенно невероятным образом. На ужин нам дали подгоревшую кашу. Я даже не обратил на это внимания, съел запросто полагающуюся порцию; зэки побогаче молча отодвинули еду. Морис схватил тарелку и пустил её вдоль пола по коридору между столами в сторону шедшего навстречу офицера надзора. В колледжах США, возможно, это было бы в порядке вещей, но на первом лагпункте МГБ, как именовалась наша шара-га, такая шуточка была равносильна брошенной бомбе. Опешивший чин хотел сделать какое-то замечание, но Морис его опередил и накричал на него первый. Смысл сказанного сводился к тому, что он — не свинья, жрать всякие отбросы не обязан, жить в этой стране не желает и требует, чтобы его выслали в Штаты… Эффект был необычен:
чин старался его успокоить и прекратить крик. Любого из нас тотчас посадили бы в комендатуру и увезли бы в Бутырки, хорошо, если просто в карцер, а не на переследствие… Но с Морисом все произошло иначе: его вызвали, пообещали отправить в лагерь, он ещё раз надерзил и когда, наконец, его увезли, часть зэков решила, что это — на пересуд, с целью отправить в Америку. Если прогноз оправдался, то посылаю ему запоздалое, но горячее поздравление старого зэка.
С сотрудником Резерфорда профессором Свет-ницким я встретился три раза. В сорок первом он провёл недели две в этапной бутырской камере. Тогда он был крепким здоровым мужчиной лет шестидесяти. Я думаю, что этот крупный учёный оставил бы по себе заметный след, если бы не его опрометчивое возвращение в тридцать седьмом «на родину». Кроме физики и химии, он был великолепным знатоком персидских поэтов и, по нашей просьбе, читал наизусть Сзади, Фирдоуси… Он охотно рассказывал также о своих путешествиях и жизни на Западе. К тому времени мы слышали уже много блестящих повествований и были достаточно избалованными, но внимали его описаниям с большим интересом и без тени скуки.
В сорок восьмом профессор появился на шарашке в качестве вольнонаемного в одной из секретных лабораторий. Он обрюзг, черты лица его деформировались, зубы выпали. Меня он не узнал, и я, чтобы его не смутить, тоже не подал виду. Однажды я отважился спросить у него, каково его мнение о принципе Ле Шателье, о котором я читал в учебнике физической химии в тридцать пятом. Он отреагировал немедленно: «Правило считается теперь устаревшим, и я не советую вам им пользоваться».
Через несколько месяцев профессора снова арестовали и его фотографию сняли с доски почета, на которой теперь зияло пустое место, об этом тоже рассказывает Солженицын в «Круге». Весть разнеслась немедленно среди заключенных и проклятия посыпались в адрес мучителей, взявшихся за новые истязания семидесятилетнего маститого ученого.