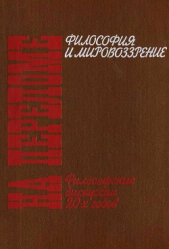Воспоминания о Штейнере

Воспоминания о Штейнере читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сцена "Фауста", показанная в космическом жесте эвритмии, явилась мне в действии ее постановки более, чем искусством: СВЕТЛОЮ МАГИЕЙ, ТЕУРГИЕЙ, как бы заклинающей змеиные силы, поднявшие из наших душ на Дорнах, на дело доктора — свои пасти.
И мне было ясно: ПАСТИ СОКРУШЕНЫ.
Здесь касаюсь я одного трудного для выражения пункта: в постановочной тенденции доктора всюду виделась мне попытка создать стиль легкости и ОБЩЕСТВЕННОЙ ИГРЫ, чтобы под фатою ИГРЫ совершилось нечто большее.
И вспоминался невольно гениальный неудачник д'Альгейм [341], создатель "Дома Песни", в своих замыслах не раз перекликавшийся с доктором; и в последние годы жизни своей упершийся, как и доктор, в проблемы: ЖЕСТА В ЭВРИТМИИ (только он их не умел разрешить: доктор — дал ключ к разрешению); много общаясь с д'Альгеймом в 1907–1908 годах, я не раз слышал от него: "Высшая магия в том, чтобы через искусство мучительные противоречия жизни разрешить не в углублениях рассудочных антиномий, — а в ритме, в божественной легкости, напоминающей игру". Постоянно находясь под ударами судьбы, д'Альгейм в безысходнейшие минуты к нам, тогдашним сотрудникам "Дома Песни", обращался с призывом: "Э БЬЕН — ЖУОН".
Но "играть" он не умел: доигрывался до синяков.
Доктор непроизвольно (а может быть, СОЗНАТЕЛЬНО втихомолку) вносил стиль ИГРЫ: в безысходные месяцы дорнахской жизни; в месяцы крушения надежд, краха "Пути" в многих душах, в месяцы клевет, свар и ссор, в месяцы, когда для нас, русских, возникали исключительные трудности пребывания в Дорнахе (в это время — падали: Варшава, Брест — Литовск, Ивангород и т. д.), — доктор в то именно время из ужасного обстания нырял часами в искусство; и — тут добивался от исполнителей той "божественной легкости", той "игры", без которой никто не прошел бы над разъятыми пропастями Дорнаха; что "пропасти" были разъяты, это я знаю; что иногда от неверного шага зависело все твое моральное бытие, — это я знаю тоже; что если бы многие взглянули в БЕЗДНУ под ногами их, они — свалились бы в бездну; нельзя было ТУТ пройти просто; но можно было тут пробежать с ГЛАЗАМИ, поднятыми над головой к играющему лучу МИФА: нужно было пройти эвритмическою походкою, чтобы пройти вообще.
И тут для душ, вперенных в бездну, как бы встал доктор: и подал пример легконогости; сам побежал впереди нас в БОЖЕСТВЕННОЙ ИГРЕ; за ним и мы пробежали; он был тут Орфеем, заставляющим плясать камни нашей окаменелости; и А. А.Т., менее всего сознававшая себя в то время эвритмисткой, теперь появилась на сцене, на ней порхая, а я — гудел "вторым турецким барабаном": разрушались наши жизни, лопались пути, взрывалось прошлое, едва держался Дорнах, обсиженный шпионами, сплетнями, рушились — Варшава и Брест [Варшава, Брест].
Провел — доктор — артист, доктор — режиссер; не дающий опомниться: ПОСТАНОВКА за ПОСТАНОВКОЙ; в постановках кружилась голова МИФОМ: в МИФЕ совершалось пресуществление АТМОСФЕРЫ; в пресуществленных мигах сами собою бывали скачки через БЕЗДНЫ.
Когда очнулись (к февралю 1916 года), то — были уже: НА ТОМ берегу; опаснейшие провалы остались за плечами; и внешне: жизнь в Дорнахе угомонилась; внешние военные фронты уравновесились.
Тогда доктор — артист нас покинул, может быть, бросившись спасать положение дел и душ в обществе: в других пунктах общества.
Были в докторе моменты, где артист, плясун легконогий, становился орфеевой маской нового посвященного; и были моменты, когда самую мистерию нового посвящения пытался он как бы влить в средства искусства.
И то, что не удавалось гениальному неудачнику д'Альгейму, удавалось ему.
Лозунги "символистов" о творчестве жизни становились под действием в нем живущей орфической силы творческими воплощениями самих символов в биографии ряда жизней, пересекавшихся в нем.
Можно подумать, что в лице доктора я пытаюсь зарисовать "великого" человека. Отнюдь: проблема "величия" в докторе ни капли не интересует; не интересует проблема "квантитативности"; меня интересует квалитативность, качество колорита, им разливаемого, независимо от размера полотен, на которых выявлен колорит. Проблема "великости" не приложима к доктору; видел я "великих" людей; и — что толку?
Про иного "великого" скажешь: "Велика федула, да — дура".
Про доктора скорее можно было сказать: "МАЛЕНЬКИЙ, да УДАЛЕНЬКИЙ"; и ростом был — маленький!
После "маленького ростом" доктора увидел я в 1912 году большого роста Меттерлинка; и, увидев, почувствовал нечто вроде: "Велика федула" [342].
И — предпочел: "маленького, да удаленького".
Искра, падающая на пороховой погреб, мала: погреб — велик.
Доктор — маленькая искра, вызывавшая большие грохоты.
"Великие люди" часто — большие грохоты, "безискренно" рассеивающиеся в атмосфере дымами.
"Дым" большой славы — "дым"; в смысле этого: мир не гремел доктором; и — доктор без великого "дыма" сошел со сцены; он — светлая искра, нашедшая точку своего применения безо всякого грохота; его действие в будущем — ОЗОН АТМОСФЕРЫ.
Удивляясь поистине гениальной режиссуре Рудольфа Штейнера, которому обязано "общество" не только инсценировкой сцен Гете, но и целого Гетеанума, я не могу не отметить того, без кого инсценировка не воплотилась бы в материальных формах (бетона, дерева, черепицы), спаянных математическими формулами и бесконечностью весьма сложных и ответственных вычислений.
Инженер Энглерт вырастает прямо передо мною — трагически: я его вижу овеянным светлой мелодией Шуберта; потом вижу его уже в другой ноте, вперенным, как и доктор, в "Ин дер Нахт" Шумана; потом… потом уже я его не видел, а только слышал о нем; то, что слышал — не стану повторять; я знаю замашку "маленьких людей" бросать камнем в тех, кого они же назвали "наш уважаемый"; не раз оказывалось у них: уважаемый ворует… платки из карманов!
То, что я слышал об Энглерте, не может мне темнить его замечательной личности, соединяющей талант, волю, пылкую прямоту и выражающей себя в ряде сердечных поступков; то, что я слышал, — бросает тень на тех, кто распространял об Энглерте эти слухи; тигр может растерзать человека; но он не… клоп; у меня есть наблюдательность, хотя бы… как у писателя. Когда мне ставят образы пусть звериного мира, я знаю, когда передо мной воняет "клоп". Энглерт, — не клоп, не тигр, а яркий человек, на много голов превышающий тех, кто о нем распространил "гадости". С ним случилось "несчастие" — он бросил Штейнера: бросил — с ропотом; и — отдался… католицизму.
Это — трагедия, для Энглерта чреватая изменением, может быть, и ритма воплощений: но я вижу тему "шумановского" безумия, овладевшую темой "шубертовской" зари.
И В ЭТОЙ СУДЬБЕ — УЗНАЮ ТЕБЯ, ДОРНАХ!
Это — судьба ТЕХ мест: мест, откуда на Гетеанум косились злые замки; мест, откуда и для меня выходил "черт"; мест, где решалась судьба… и моя; и не моя одна, но… и Ницше: в его писании "Происхождение трагедии из духа музыки", в его разрыве с Вагнером, в его ужасе перед мещанством и пошлостью.
Роковые места!
И в роковых местах встает передо мною роковая фигура… Энглерта, строителя Гетеанума, проклявшего… Гетеанум. Хочется воскликнуть: "Эссе омо!"