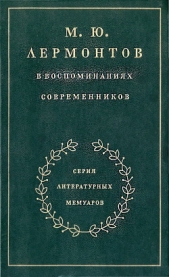Эйзенштейн в воспоминаниях современников

Эйзенштейн в воспоминаниях современников читать книгу онлайн
В сборнике воспоминаний о выдающемся мастере советского кинематографа С. М. Эйзенштейне выступают крупнейшие советские режиссеры и актеры — Л. Кулешов, Г. Козинцев, С. Юткевич, Г. Рошаль, М. Штраух, С. Бирман, Г. Уланова; композитор С. Прокофьев; художник М. Сарьян; критики Р. Юренев и И. Юзовский; зарубежные кинодеятели — Ч. Чаплин, А. Монтегю, Л. Муссинак, А. Кавальканти и другие. Они делятся своими впечатлениями об Эйзенштейне — режиссере, драматурге, теоретике и историке кино, художнике, ораторе, публицисте, педагоге.
Сборник представляет интерес как для специалистов, так и для массового читателя, интересующегося проблемами киноискусства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сергей Михайлович пришел задолго до назначенного часа, чтобы, как он сам объяснил, постичь тайны восточной кухни. Но всевозможные восточные сладости, которые прекрасно готовила Софья Павловна [99], как и знаменитые тбилисские сациви, уже ждали своего часа. Зато «шашлык по-еревански», который я готовил на мангале, установленном на балконе, был создан при непосредственном участии Сергея Михайловича. Эйзенштейн был удивлен, когда узнал, что я разжигаю в мангале специально привезенные из Еревана сухие ветки виноградной лозы. Я объяснил, что шашлык, поджаренный на виноградной лозе, получается особенно ароматным. Смеясь, Эйзенштейн сказал, что я напоминаю ему некоего античного богача, который совершенно разорился, тратя огромные суммы на выращивание каких-то деревьев, необходимых ему для его замечательной, славящейся далеко вокруг кухни…
Этот «восточный обед» прошел еще лучше. Эйзенштейн был в ударе. Мы все слушали его как завороженные. Когда он стал рассказывать, какое впечатление произвели на него армянские миниатюры, которые он видел в Эчмиадзине, со стороны могло бы показаться, будто этот человек всю жизнь занимался изучением литературы по этому вопросу — такая глубина и основательность отличали его суждения при всем блеске и остроумии изложения…
Было уже сравнительно поздно, когда за столом остались трое: Эйзенштейн, Юткевич и я. Разговор зашел о непонятном решении: к двадцатилетию Октябрьской революции запустить в производство только один фильм — «Ленин в Октябре» и остановить работу над другим — «Человек с ружьем» по сценарию Н. Погодина. Этот фильм должен был снимать С. Юткевич, уже разработавший режиссерский сценарий и давно уже наметивший исполнителем роли Ленина замечательного актера Б. Щукина, который теперь был занят в фильме «Ленин в Октябре»…
Сергей Михайлович вдруг стал другим, каким я никогда его не видел. Куда делись его оживление, острые слова, которые, казалось, сами собой сыпались у него с языка? В эту минуту он выглядел усталым и грустным.
— Одиннадцать дней, — сказал он. — Понимаете? Мне нужно было только одиннадцать съемочных дней, чтобы закончить «Бежин луг», который я снимал уже больше двух лет. Тогда я вынес бы на суд общественности готовый фильм, а не разрозненный материал… Увы… Мне не дали этих одиннадцати дней…
Но это продолжалось только минуту или две, — и вот уже снова я вижу Эйзенштейна таким, каким все мы привыкли его видеть: веселым, неунывающим, озадачивающим собеседника парадоксами и каламбурами…
Николай Левицкий
Штрихи к портрету
Прошло много времени с тех пор, как последний раз я видел его, говорил с ним… А время, как известно, тушит яркость впечатлений, забывается многое, главное — детали, которые в обрисовке портрета играют не последнюю роль.
Мы — ученики Эйзенштейна (а нас в его группе девятнадцать), — проведшие с ним четыре года (1932–1936) в стенах одного здания — бывшего «Яра», в стенах одной комнаты на втором этаже, которая называлась «комнатой режиссуры», не только находились под влиянием его огромного обаяния, мы обожали его, любили как целое, единственное и неповторимое, не замечая никаких деталей в его портрете. И не старались заметить. Для пае он был кумиром. Нас — выходцев из рабоче-крестьянской среды, впервые встретивших человека энциклопедических знаний, — восхищало в нем все, начиная с того, так он виртуозно — одной линией — рисовал на доске фигурки, и кончая тем, как он свободно разговаривал на нескольких иностранных языках.
Мы старались подражать ему (у нас, правда, ничего из этого не получалось), подражать даже в стилистике построения фразы, в интонации, даже в постоянных обращениях к древним грекам и к эпохе Возрождения…
Он иногда называл меня «Мцыри» и при этом обворожительно улыбался, смотря, какое впечатление произведет на меня это слово. Я понимал значение этого слова и внутренне был обижен — нет, не на него, а на себя, за то, что я, очевидно, похож на лермонтовского Мцыри. Я думал, что, называя меня так, он имел в виду именно лермонтовского Мцыри.
Мы не сердились на него за неприятные для некоторых из нас эпитеты, которыми он любил шутливо награждать нас на лекциях в обычно тогда, когда тот или другой отвечал невпопад на поставленный им вопрос.
В нашей режиссерской комнате были устроены подмостки наподобие маленькой сцены для выполнения равных актерских и режиссерских этюдов по ходу его лекций. На подмостках стояла черная классная доска и простой стул. Во время чтения лекции Сергей Михайлович не стоял за кафедрой (которой, кстати, у нас и не было), а все время расхаживал по сцене, часто подходил к доске и рисовал на ней разные схемы и человеческие фигурки, облекая, так сказать, свои мысли в пластические формы, с тем чтобы они лучше, прочнее западали в наши головы.
Он читал лекции почти всегда увлеченно, вдохновенно, поражав нас изумительной памятью. Мы любовались им.
Большая голова. Почти половина лица — лоб. Острые пронизывающие глаза — смердящие, когда он обращался с вопросом и смотрел на тебя, ожидая ответа.
Я запомнил его на лекциях обычно одетым в костюм песочного цвета — длинный пиджак с прямой свободной спиной и достаточно узкие по тем временам брюки с обшлагами. Его маленькие ноги — они казались маленькими в сравнении с его грузноватой фигурой — обуты в желтые американского фасона полуботинки.
Он не был лишен кокетства. Но это кокетство не казалось чем-то наигранным или фальшивым, оно дополняло обаяние его личности. Запомнилась его походка — чуть женственная, со свободным взмахом руки. По лестнице, ведущей на второй этаж в комнату режиссуры, он не шел спокойно, а всегда бежал, запрокинув назад большую волосатую голову. В этот момент его фигура чем-то напоминала оленя. Потом, идя по коридору, часто, тяжело дышал.
Мне всегда казалось, что улыбка и юмор были его потребностью, свойством его характера. Когда он говорил с кем-либо из нас, всегда смотрел в твои глаза с чуть заметной улыбкой и обязательно вставлял смешное словечко, то ли для того, чтобы мы не смущались, то ли чтобы лучше запомнили то, что он говорил.
Когда он углублялся в чтение чего-либо, даже в чтение наших контрольных работ, он становился предельно сосредоточенным и на его высоком чистом лбу собирались морщинки. В эти моменты он казался мудрым даже внешне.
Некоторые из нас так изучили особенности строения его головы, что совершению свободно рисовали его в фас и в профиль. Выходило — как это ни странно — всегда похоже, хотя не многие из нас умели рисовать. На наших рисунках особенно выпирал его высокий лоб и дыбом стоящие волосы, по контуру чем-то напоминающие именно оленьи рога.
Как-то на большом листе склеенного ватмана Валя Кадочников изобразил его наседкой с распущенными крыльями. Из‑под крыльев выглядывали в виде цыплят мы — его ученики. Каждому было придано портретное сходство.
После окончания последнего семестра мы, ею ученики, — Олег Павленко, Константин Пипинашвили, Николай Маслов, Михаил Винярский, Натан Любошиц, Федор Филиппов, Виктор Невежин, Леонид Альцев, Михаил Величко, Валентин Кадочников, Григорий Липшиц, Мария Пугачевская, Елена Скачко, Уруймагов, Герберт Маршалл, Николай Левицкий и еще трое (не могу вспомнить фамилии) — собрались в «комнате режиссуры» на втором этаже «Яра», очень возбужденные, даже радостные, что наконец-то закончилась учеба, и грустные оттого, что придется расставаться со своим дорогим учителем, с которым были вместе долгие годы учения. Кто-то принес стопу больших фотопортретов Сергея Михайловича, с тем чтобы на прощание он подарил каждому свой портрет с надписью.
Ждем Эйзенштейна. Наконец он входит чуть запыхавшись. Мы встречаем его бурными аплодисментами. Мы аплодировали долго — пока не заболели ладош рук. Он стоял перед нами чуть смущенный я чуть улыбался. Потом сел за стол, взял стопу фотографий, взвесил ее на руке и нараспев сказал: