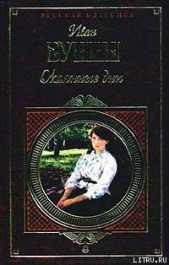Рахманинов

Рахманинов читать книгу онлайн
Книга посвящена Рахманинову Сергею Васильевичу (1873–1943) — выдающемуся российскому композитору, пианисту, дирижеру.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сатины в Дрездене жили замкнуто. Софья Александровна заботилась о родителях, работала в биологической лаборатории. Как и прежде, много трудилась, читала, думала. Только в письмах на родину изредка высказывала себя чистая русская душа.
«…Я бесконечно благодарна судьбе, — писала она Е.Ю. Крейцер, — что она дала мне возможность опять увидеть всю красоту, величие и душу нашего народа…»
Еще ярче та же нота прозвучала в письмах к Марине:
«…Сколько передумано, перечувствовано за это время, что мы расстались; как глаза открылись на многое из того, на что прежде, если не с благоговением, то с уважением и затаенной завистью смотрела, а теперь пропади они пропадом! Как, с другой стороны, недооценивала, любила, но не чтила все русское! Какое великое счастье, что я русская. Только сейчас не я одна, а мы все, и Сережа в первую очередь, поняли и до дна почувствовали, что это за великая страна!»
Встречи и впечатления этого года не прошли для композитора даром. Душевное оцепенение как бы начало понемногу проходить. Это чувство было для него знакомым. Темная стоячая вода дрогнула, колыхнулась и закружилась медленно в поисках выхода для себя. Пока он, как художник, еще не видел его.
Однажды в Швейцарии Николай Карлович Метнер, озабоченно глядя на старого друга кроткими голубыми глазами, спросил очень осторожно, почему все же он не попробует сочинять.
Рахманинов ответил не сразу.
— Как же сочинять, — проговорил он со слабой улыбкой, — если нет мелодии! Если я… — подумав, добавил он, — если я давно уже не слышал, как шелестит рожь, как шумят березы…
Глава вторая КЛЕРФОНТЭН
С той поры как Рахманинов впервые приехал на лето в Европу, его не покидала мысль об уходе из Америки на восток в более или менее отдаленном будущем, если не на Родину, то все же туда, ближе к милому пределу.
Он хорошо понимал, что время для этого настанет еще, может быть, не скоро.
Между тем связи со Старым Светом крепли.
Осенью 24-го года в Париже князь Петр Григорьевич Волконский сделал предложение Ирине. В письме к Марии Аркадьевне Трубниковой Сергей Васильевич писал о дочерях, что одну уже потерял, а другую не надеется удержать надолго.
С уходом Ирины семья не только поредела, но и как бы «притихла». Большой дом в Нью-Йорке оказался никому не нужным. Рахманиновы сняли небольшую скромную квартиру в относительно тихом районе города, где и прожили последующие восемнадцать лет (вернее зим, на лето в первые годы обычно уезжали во Францию).
Лето 25-го года началось плохо. Давнишняя невралгическая боль в правом виске осложнилась опухолью глаза и привела композитора в клинику.
Едва музыкант начал поправляться, как нелепая смерть бурей ворвалась в семью. В августе неожиданно овдовела Ирина. Утрата оставила после себя след горечи и смятения.
Сезон закончился рано. Но «творческая тишина», которую пытался создать для себя композитор, не давалась. Сперва потребовался музыкальный адрес к шестидесятилетию Глазунова. Затем неожиданно приехал Владимир Немирович-Данченко с эфемерным проектом постановки «Пиковой дамы» на сцене «Метрополитен-Опера» под управлением Рахманинова.
Письма шли нескончаемой вереницей.
Неисправимо доверчивый и неискушенный в практических делах Николай Карлович Метнер сетовал на скаредность издателей-«бизнесменов».
«Существуют, — писал в ответ Рахманинов, — три категории композиторов:
…1. Те, что пишут популярную музыку для «рынка».
2. Модную, то есть модернистскую, музыку и, наконец, —
3. Пишущие «серьезную, очень серьезную музыку», как говорят дамы. К последней категории имеем честь принадлежать и мы с Вами. Издатели очень охотно печатают сочинения первых двух категорий, так как это хороший «бизнес», а последней — крайне неохотно… Иногда у издателя еще появляется надежда, что автор серьезной музыки приближается к столетнему юбилею или, что еще лучше, что он уже умер и его сочинения могут поэтому сделаться популярными. Но эта надежда никогда не бывает серьезной. Беляев был единственным исключением. Он печатал только серьезную музыку и потерял на этом все свое состояние… Гутхейль, напечатавший почти все написанное мной, одновременно издавал тысячи популярных романсов и вальсов, иначе ему пришлось бы повеситься…»
В конце письма он советовал Метнеру смириться и безропотно принимать условия, которые ему предлагают.
В итоге трехмесячного уединения появился не новый фортепьянный концерт, а всего лишь несколько фортепьянных переложений на темы Фрица Крейслера и на свою собственную — «Маргаритки».
Накануне отъезда в Европу весной композитор признался Владимиру Вильшау, что охотно писал бы ему чаще, «…если бы не окаянная здешняя жизнь, отнимающая вместе с работой весь твой день, и постоянная спешка сделать то, что надо в смысле работы, и то, что не надо и, в сущности, бесцельно, в смысле всяких посещений, отписок, приставания, предложений…
…Единственного, чего нет в этой стране, это покоя. Впрочем, и в Европе трудно его доставать стало. Или я не умею его устроить, или его быть нигде не может. Так все я спешу с непроходящим сознанием, что не поспею!..»
Только к исходу сентября 1926 года концерт был, наконец, завершен.
В письме к Метнеру он признался, что его больше всего ужасает длина партитуры — сто десять страниц. Все же он возражал против метнеровекого определения «длины» музыкальных сочинений.
«…Можно ли считать вообще, что музыка настолько неприятная вещь, что чем меньше ее, тем лучше?.. Естественно, есть пределы объема музыкальных произведений, и книг, и художественных полотен. Но в этих пределах не длина композиций создает впечатление скуки, но, напротив, скука создает впечатление длины. Песня в две странички, лишенная вдохновения, выглядит длиннее, чем «Кармен» Бизе, а шубертовский «Доппельгангер» кажется мне грандиознее симфонии Брукнера…»
Помимо концерта, была еще одна работа, совсем новая. Он хранил ее в тайне почти по день исполнения.
Наконец в марте концерт предстал на «уд толпы и поругание критики. В последнем Рахманинов не сомневался и не ошибся. Еще в процессе работы он нимало не обольщал себя по поводу концерта. Вся фактура его тяжелая, вязкая, грузная, лишена былой прозрачности. Местами встречается несвойственная Рахманинову разорванность мысли. Колорит сочинения — «зимний, жесткий, лишенный радости и тепла». Это не речь художника, обращенная к человеческой душе, но долгие томительные поиски какого-то образа, который непрестанно ускользает, не находя своего воплощения.
Едва в ушах автора смолк гром оваций, как перед глазами замелькали язвительные строчки:
«…Новый концерт остается всецело в XIX веке, словно его написал Чайковский…», «Струя Мендельсона…», «…Монотонность трактовки…», «…Внимание блуждает…», «Бледная тень Шумана», «…Много сказано, но ничего важного…»
Таков был общий тон. Но «Три русские песни» для хора с оркестром получили в среде критиков несколько иной резонанс.
Едва ли до них дошло существо замысла, выношенного и выстраданного композитором за годы молчания. Но сама необычность манеры изложения создала у многих впечатление глубокой музыкальной драмы.
История песен не совсем обычна. Первую — «Через речку, речку быстру» — он узнал еще в Москве в далекие годы. Вторую — «Эх ты, Ваня, разудала голова» — услыхал от Шаляпина. Третью принесла ему известная в те годы певица Надежда Плевицкая в дни памятной «русской осени» в Нью- Йорке.
Бесхитростный рассказ про горькую женскую долю с первых же тактов захватил композитора своей глубокой искренностью. Страх, тоска, покорность в ожидании мужнего суда и какая-то отчаянная безнадежная удаль — все было в этих строчках.