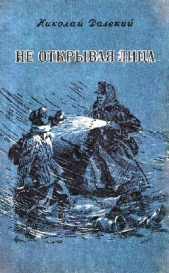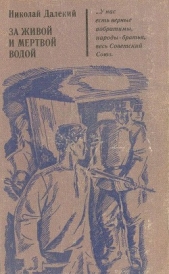За живой и мертвой водой
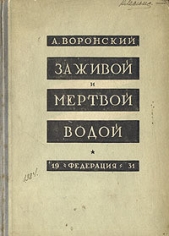
За живой и мертвой водой читать книгу онлайн
Александр Константинович (1884–1937) — русский критик, писатель. Редактор журнала «Красная новь» (1921-27). В статьях о советской литературе (сборники «Искусство видеть мир», 1928, «Литературные портреты», т. 1–2, 1928-29) отстаивал реализм, классические традиции; акцентировал роль интуиции в художественном творчестве. Автобиографическая повесть «За живой и мертвой водой» (1927), «Бурса» (1933). Репрессирован; реабилитирован посмертно.
В автобиографической книге «За живой и мертвой водой» Александр Константинович Воронский с мягким юмором рассказал о начале своей литературной работы. Воронский — будущий редактор журнала «Красная новь». За бунт его исключили из духовной семинарии — и он стал революционером. Сидел в тюрьме, был в ссылке… «Наша жизнь» — замечает он — «зависит от первоначальных впечатлений, которые мы получаем в детстве… Ими прежде всего определяется, будет ли человек угрюм, общителен, весел, тосклив, сгниёт ли он прозябая или совершит героические поступки. Почему? Потому что только ребёнок ощущает мир живым и конкретным.» Но и в зрелые годы Воронский сохранил яркость восприятия — его книга написана великолепно!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я спрашиваю, до чего это может дойти? Это до того может дойти, что я… без горячего оставаться буду. Когда же придёт конец моим страданиям!.. Сколько раз я твердил, что красное вино подавать подогретым, говорю я вам!..
Я постарался незаметно убраться.
Одинокая старуха с трясущейся шеей, с волосатой бородавкой на верхней губе, наколке, — к ней я попал по ошибке, — ничего не поняв из того, что я ей говорил, зашамкала:
— Ты, батюшка, не пугай понапрасну людей, я и без того пужливая. Как увижу незнакомого человека, так и затрясусь вся, так и затрясусь. Сама не своя делаюсь. Такие лиходеи кругом пошли, не приведи бог… А ежели ты от полиции, так прямо и говори. Боюсь я всего, и полицию боюсь, — боюсь, а уважаю… Всякому своё: ты вот в полиции служишь, а я чулки тёплые вяжу родным, и пуще всего людей страшусь.
Старик в пёстром халате с бархатными чёрными отворотами, ёжа нависшие брови, буравя меня глазами, внимательно просмотрел образцы изданий, — показывая большой и ёрзающий кадык, тихо сказал:
— Пустяки, сущие пустяки! Ненужные книги. Вот если бы предложили альбомчик эдакий, весёлого содержания… бывают такие, с бабочками в особых положениях… я взял бы его у вас. Очень недурные альбомчики продаются… Займитесь: и вам доход, и покупателю приятно.
Усач кавалерист в жёстких подусниках, расставив кривые ноги, пристёгивая саблю и глядя на меня мутными выпуклыми глазами, поучал:
— Обман и надувательство и… глупости. Взять бы ваших писак, выстроить на плацу да погонять в полной амуниции часа четыре — вот и перестали бы бумагу марать. Жулики они, ваши писатели, брандахлысты… шопены какие-то… Пра-шу на меня не надеяться.
Запомнилось мне и посещение редактора-издателя «Русского архива» П. И. Бартенева. Его деревянный дом, кажется, на Старой Каретной, в старинном русском стиле, уединённо стоял в глубине двора. Дверь открыл старик-слуга в поношенном, но опрятном чёрном долгополом сюртуке. Видимо, он остался у Бартенева с крепостных времён. Внимательно и сурово оглядев с ног до головы, старик степенно провёл меня в гостиную, отнёс визитную карточку в кабинет к Бартеневу, возвратившись, сказал внушительно:
— Пётр Иванович изволили просить вас, сударь, обождать.
Он придвинул кресло, предложил сесть. В доме стояла тишина, необычайная для Москвы. Всё, что было кругом, напоминало стародворянский уклад. На стенах из сосновых брёвен, без обоев, но чистых, висели именитые портреты. Казалось, они надменно и сурово охраняли незыблемость и своего прошлого, и этого уклада в настоящем. На столе лежали альбомы — родословные знатнейших дворянских фамилий, — книги в крепких сафьяновых переплётах. Кожаная тёмная мебель покоилась парадно и холодно. Пахло смолой, приятной затхлостью. На всём лежал отпечаток былого, простоты, чинности и строгости.
Ждать пришлось недолго. Бартенев принял меня, сидя за большим письменным столом в глубоком кресле, сгорбившись и откинувшись к спинке. По обеим сторонам кресла стояли костыли. Бартеневу, очевидно, было трудно держать большую голову, она часто свешивалась у него набок. Увидев меня, он сделал вид, будто пытается привстать, но не привстал, холодно и вежливо прошептал:
— Прошу, сударь, сесть. Чем могу служить?
Я показал ему образцы. Перелистав «Историю Москвы», он промолвил:
— Репродукции хороши, но позвольте узнать, какие сочинители участвуют в ваших изданиях?
Я назвал Рожкова, Кизеветтера, Никольского. Бартенев поспешно отодвинул от себя книги, взял костыль. На его старческом, измождённом лице сеть дряблых морщин стала глубже и резче.
— Жиды, сударь, жиды! Не могу подписаться, не буду. Не надо мне жидовских книг.
Я заметил, что названные мной историки — не жиды, а евреи — культурнейшая нация.
Старик потёр ладонь и, как бы огораживаясь от меня, с силой перебил:
— Жиды-с! О культуре же расскажу вам, молодой человек, поучительную историю. Подобно вам, одна дама наслушалась речей о культуре. Куда ни придёт, сейчас: культура, культура. Её и спросили однажды, что же такое культура. «Это, — ответила дама, — зверок такой, на крысу похож». Культуру-то культурнейшая дама с крысой смешала.
Обескураженный, я сказал Бартеневу:
— У меня есть отзывы газет и журналов о книгах, которые я вам предлагаю. Они все похвальные.
Бартенев заёрзал на кресле, наклонился ко мне, сжал ещё крепче рукою костыль.
— Все ваши газеты жидовские.
Забыв о цели своего прихода, я промолвил:
— Есть разные газеты. По всей вероятности, вы не считаете жидовскими такие газеты, как «Новое время» или «Русское знамя».
Старик нимало не смутился.
— И «Новое время», и ваше «Русское знамя» тоже жидовские газеты. Не жидовских газет, государь мой, нет и не может быть. От газет пошли на Руси все беды: смута, бунты. Разврат, безбожие, хамство — всё от газет ваших. В старину газет не было, и жилось лучше. Я газет не читаю и вам заказываю: не оскверняйте рук ваших погаными листками — дьявольское в них наваждение. Не губите себя, послушайтесь старика.
Бартенев потянулся к столу, стал шарить руками. Они у него были длинные и цепкие. Почудилось, что они, как резина, могут стягиваться и растягиваться. Он нашёл мою визитную карточку, повертел её в руках, покачал головой, спросил подозрительно:
— Вы не из поляков?
— Я сын православного священника.
Бартенев пристально посмотрел на меня.
— Разрешаю себе спросить, какой вы губернии?
— Тамбовской.
— Вы не Липецкого уезда?
— Нет, я родился около Кирсанова, но бывал и в Липецком уезде.
Взгляд у Бартенева смягчился. Он отложил костыль в сторону, коснулся моего рукава, мягко и задушевно проговорил:
— Может быть, слыхали — родовое имение у меня там есть. Хорошее именье. И кругом прекрасные окрестности. Так вот как: земляки мы с вами. Что же вы, сын священника, с жидами-то связались? Не могу похвалить, не могу. Папаша-то ваш священствует? Помер? Вот видите, без отца-то и свихнулись. — Указав на визитную карточку, укоризненно продолжал: — К чему это срезанные косяком углы? Безобразно, нехорошо. Дурной вкус. От газет это, от книг ваших. Визитная карточка должна быть почтительна, скромна, а не срамна. Смотрите, в наше время таких вульгарных вещей не было. — Он подал мне свою визитную карточку. — Никаких обрезов, и как славно, государь мой. Вот отчего у нас, у дворян, рождались Пушкины, Лермонтовы, Тютчевы, а у вас стрекулисты… обрезанные… Так-то… Подписаться на ваши издания не могу, не просите, но у меня есть сын, — сейчас он в отъезде. Может быть, он найдёт нужным купить ваши книги. Оставьте свой адрес. Когда приедет, я оповещу вас. Вы зайдите, зайдите. Мы ещё побеседуем с вами. Наставлять вас надо, учить, долго ли до греха.
Прощаясь, Бартенев на этот раз попытался в самом деле привстать.
Недели через три я получил от Бартенева письмо: «Глубокоуважаемый, — писал он, называя меня по имени и отчеству, — уведомляю вас, что сын мой возвратился в мой дом. Буду признателен, если потрудитесь посетить нас. Надеюсь на вашу неизменную ко мне благосклонность. П. Бартенев».
К сожалению, я не откликнулся на его предложение, но письмо долго хранил.
Дела по подписке и продаже книг шли всё хуже и хуже. Тартаков относился к неудачам сначала снисходительно, но мало-помалу его обращение со мной изменилось.
— Работать надо, — твердил он осанисто и солидно, выбивая пальцами лёгкую дробь по столу или медленно шагая по комнате и созерцая носки ботинок. — Всякая работа требует упорства, а в нашем деле и нахальства. Агент должен поставить себе за правило не уходить из квартиры или из учреждения, не уломав подписчика. Одного следует взять измором, другого нахрапом, третьему польстить, четвёртого застать врасплох, пятого убедить. Стесняться и скромничать тут не годится.
Иногда он говорил уже грубо, не скрывая недовольства, он уже приказывал, распоряжался, не выслушивая возражений, перебивал, его замечания звучали уже как выговор. Наши беседы и споры о настоящем, воспоминания о прошлом давно прекратились. Он поставил себя в положение начальника-работодателя, меня — в положение служащего и подчинённого. С другими агентами он держался ещё более грубо и несдержанно. Он жил в довольстве, зарабатывая четыреста — пятьсот рублей в месяц, обедал в лучших ресторанах, бывал в опере, в Художественном театре, платил помесячно извозчику, державшему рысистую лошадь и щегольскую коляску на дутых шинах.