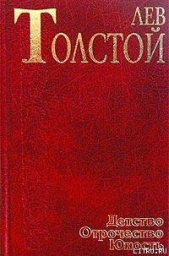Л. Н. Толстой в последний год его жизни

Л. Н. Толстой в последний год его жизни читать книгу онлайн
В. Ф. Булгаков (1886–1966) был секретарем Л. Н. Толстого в последний год его жизни (1910). Книга представляет собой дневник В. Ф. Булгакова, который он вел все эго время, и содержит подробное и объективное описание духовных исканий Л. Н. Толстого этого периода, изображение драматических событий последнего года жизни писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я совершаю отчаянный поступок.
— Почему?
— Должно быть, дальше нехорошо будет…
— Тогда лучше не ездить.
— Нет, надо попробовать!
Едем. Один за другим крутые спуски — ступенями все ниже и ниже.
— Да, пока что действительно отчаянно, — говорю я.
— Пока хорошо, — отвечает Лев Николаевич.
— А вы припоминаете эту тропинку?
— Совсем не знаю.
Выбрались, однако, благополучно.
Подъезжаем к Ясной. Стадо на лугу. Подходит мальчишка — пастух, без шапки.
— Ваше сиятельство, дозвольте на вашем лугу стадо пасти.
А стадо уже на «барском» лугу.
— Это не мой луг, я не хозяин, — отвечает Лев Николаевич и едет дальше.
Третьего дня были у Льва Николаевича, а вчера пришли к нам в Телятинки двое молодых людей, только что окончивших реальное училище и сдавших дополнительные экзамены для поступления в университет. Оба — облеченные уже в студенческие фуражки. Они уважают и любят Льва Николаевича как художника. Пришли в Ясную Поляну видеть его и… только. Как они рассказывали, Лев Николаевич сказал им, что всегда бывает очень рад беседовать с молодыми людьми, но только тогда, когда они задают ему какие‑нибудь вопросы и вообще хотят серьезно о чем‑нибудь поговорить. Затем они отправились к Черткову, чтобы получить «более подробные сведения о жизни Льва Николаевича». Ничего из последних писаний Льва Николаевича не читали, но заявили, что главные вопро — сы жизни уже разрешены ими. Обоим по семнадцати лет.
Владимир Григорьевич долго и хорошо говорил с ними в присутствии нашей молодежи, но только не о подробностях жизни Льва Николаевича, а об образовании, смысле жизни и религии. Студенты остались по его предложению, ночевать в Телятинках, так как явились они туда вечером, проведши день в прогулке по окрестностям. Они, одним словом, как выразился Владимир Григорьевич, «делали экскурсию около Толстого». Но оба такие беспомощные, искренние и молодые…
О беседе с ними Владимира Григорьевича и о том, что и на сегодня они остались в Телятинках, я передал Льву Николаевичу.
— Ах, вот как? Я очень рад, очень рад, — сказал он.
Когда Лев Николаевич уже лег отдыхать после верховой прогулки, пришел солдат… Сегодня около деревни остановились бивуаком два батальона солдат, разбив в поле, как раз перед въездом в усадьбу Толстых, палатки. Офицеры поместились в избах. По приходе начальник отряда собрал взводных, унтер — офицеров и приказал им следить, чтобы никто из солдат не смел ходить к Толстому. «Это враг правительства и православия». И вот еврей двадцати одного года, киевлянин Исаак Винарский, взял два котелка и, отправившись будто бы только за водой, задами пробрался к дому Льва Николаевича. Взводному он сказал, что пусть его арестовывают, а он все‑таки сходит «Л. Н. Толстому. Как я и сказал, Лев Николаевич, к сожалению, не мог к нему выйти. Я поговорил с ним.
— Специально для Льва Николаевича десять суток отсижу под арестом! — с счастливой улыбкой говорил солдатик, очень горячий человек.
Он грамотный. Жаловался на то, что очень огрубел за время службы, читать нечего; говорил, что ни одного солдата нет, который бы служил охотно; рассказывал о случае самоубийства солдата, не вынесшего тяжести службы.
— Хоть дом Льва Николаевича увидал, — говорил он.
Пользуясь тем, что никого не было, я провел солдата внутрь дома и показал ему зал, потом подарил открытку с портретом Льва Николаевича, которую он запрятал за голенище сапога. И ушел он очень счастливый, захватив для взводного, отпустившего его к Толстому, в благодарность два яблока из толстовского сада.
Мать В. Г. Черткова Елизавета Ивановна хотела подарить в яснополянскую библиотеку книжки, излагающие евангелическое вероисповедание, но прежде поручила мне спросить Льва Николаевича, не будет ли он что‑либо иметь против этого.
— Очень рад, очень рад, — сказал мне Лев Николаевич и добавил, — пусть читают!
Подробно книжек он не рассматривал, а взглянул только на две, на три и улыбнулся, покачав головой.
После я рассказывал Льву Николаевичу, что бывшие в Телятинках два студента ушли, видимо, заинтересованные его мировоззрением, которого раньше они, конечно, не знали, хотя и утверждали противное.
— Мы сейчас с вами рассматривали книги Елизаветы Ивановны, — сказал Лев Николаевич. — Кажется, что нечего их читать, что все это уже известно. Вот точно такое отношение большинства и к моим книгам.
Затем Лев Николаевич рассказал, что вчера вечером были у него четыре солдата из остановившегося в деревне отряда. Был и Винарский. Из остальных двое тоже были евреи. Один русский.
Лев Николаевич говорил:
— Если встать на точку зрения патриотизма, то я бы пускал евреев беспрепятственно в университеты, в школы, но ни одного бы не пустил в войска. У тех, которые были у меня, так как они люди умные, ничего, кроме ужаса, отвращения перед солдатчиной, нет. И другой, русский, положим — тоже… Книги? Позволяется читать только книги из полковой библиотеки. Но так как там только самые глупые, а народ теперь уже выше этого, то их не читают.
Рассказал также, что, как он узнал, трое бывших у него солдат «за самовольную отлучку» приговорены к трем месяцам ареста.
Лев Николаевич рассказывал за обедом:
— Я наблюдал муравьев. Они ползли по дереву — вверх и вниз. Я не знаю, что они могли там брать? Но только у тех, которые ползут вверх, брюшко маленькое, обыкновенное, а у тех, которые спускаются, толстое, тяжелое. Видимо, они набирали что‑то внутрь себя. И так он ползет, только свою дорожку знает. По дереву — неровности, наросты, он их обходит и ползет дальше… На старости мне как‑то особенно удивительно, когда я так смотрю на муравьев, на деревья. И что перед этим значат все аэропланы! Так это все грубо, аляповато!..
Потом говорил:
— Какой прекрасный день в «Круге чтения»! Рассказ Мопассана «Одиночество». В основе его прекрасная, верная мысль, но она не доведена до конца. Как Шопенгауэр говорил: «Когда остаешься один, то надо понять, кто тот внутри тебя, с кем ты остаешься». У Мопассана нет этого. Он находился в процессе внутреннего роста, процесс этот в нем еще не закончился. Но бывают люди, у которых он и не начинался. Таковы все дети, и сколько взрослых и стариков!..
Софья Андреевна, присутствовавшая за обедом, несколько раз прерывала Льва Николаевича своими замечаниями. Она почти ни в чем не соглашалась с ним. Изречение Шопенгауэра о боге, о высшем духовном начале в человеке, — изречение, составляющее для Льва Николаевича одно из коренных убеждений его жизни, основу всего его мышления, — она тут же, при нем, аттестовала как «только остроумную шутку».
Лев Николаевич скоро ушел к себе в кабинет.
— Грешный человек, я ушел, — сказал он, — потому что при Софье Андреевне нет никакой возможности вести разговор, серьезный разговор…
Вечером С. Д. Николаев рассказывал о кавказских друзьях и последователях Льва Николаевича, описывая один за другим их хуторки по Черноморскому побережью и в других областях [245].
Потом H. Н. Ге долго и очень интересно рассказывал о Швейцарии, в которой он прожил десять лет. Лев Николаевич задавал ему один за другим вопросы: о го — сударственном устройстве, владении землей, законодательстве, войске, уголовных законах, тюрьмах, нищих, безработных, цензуре, главное — религиозном движении и пр.
Свободолюбивая страна покорила его сердце. Он находил, что Швейцария — государство, наиболее приближающееся к анархическому обществу и с наименьшим употреблением насилия, и вполне соглашался с мыслью Ге, что из нее, как из эмбриона, должны развиться подобные же общества, сначала в соседних странах (как Эльзас), а потом по всей Европе. Между прочим, умилило Льва Николаевича то, что когда в швейцарской тюрьме не содержится ни одного человека, то над тюрьмой выкидывается флаг, который, как говорил Ге, не снимается иногда подолгу. Понравились также ему рассказы о честности жителей. Когда кто‑то сказал, что там нельзя ожидать отказов от воинской повинности, потому что таких отказов там не допустят, Лев Николаевич заметил: