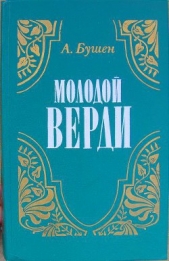Мир итальянской оперы

Мир итальянской оперы читать книгу онлайн
Книга вышла из-под пера корифея оперной сцены XX столетия, обладателя редкого по красоте баритона, великолепного актера, а позже постановщика Тито Гобби. Она построена как ряд эссе, посвященных общим проблемам вокала, а также сугубо индивидуальному разбору шедевров оперной сцены, созданных Моцартом, РОССИНИ, Верди, Пуччини.Тито Гобби предстает перед читателем как одаренный литератор, тонкий психолог, высокообразованный музыкант, рисующий образы не только оперных персонажей, но и знаменитых исполнителей.Иллюстрированная книга рекомендуется широкому кругу любителей музыки.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- Кто вы? - спросил меня маэстро за кулисами.
- Гобби, - прошептал я в ответ, чувствуя, как моя душа разрывается между гордостью и ужасом. - Я заменяю актера, поющего Глашатая.
- Отлично. Главное, не волнуйтесь, я подам вам знак, когда настанет ваш черед, - сказал он.
В этот момент я увидел рослого мужчину, который только что покровительственно втирал в мое лицо грим. Теперь этот человек изменился до неузнаваемости. Он дрожал, крестился и целовал какие-то амулеты, перед тем как выйти на сцену. Царственное величие куда-то подевалось - передо мной находилось терзаемое страхом существо.
Эта метаморфоза, произошедшая с человеком, который казался столь уверенным в себе, усугубила мои собственные опасения, и я тревожно спрашивал:
- Когда мой выход, маэстро?
- Обождите, - успокаивал меня добродушный маэстро, - я скажу.
Ему и в голову не приходило, что я абсолютно незнаком с постановкой и никогда до этого не выступал. А следовательно, мне ничего не известно о том, в каком темпе выходить на сцену. Когда он сказал мне: "Пошел!", я рванул вперед, как бегун при выстреле стартового пистолета, со всего маху распахнул дверь и, не обращая никакого внимания на великого Танкреди Пазеро, который в тот момент пел арию, что было сил выпалил: "La Signoria del Doge e del Sen-a-a-ato" - по крайней мере на полминуты раньше, чем было нужно.
Пазеро внезапно остановился, раскрыв от удивления рот, тогда как другой здоровяк метнул на меня взгляд, исполненный ярости. Маэстро Пиццетти, который ввиду значительности события сам дирижировал своей оперой, едва не хватил удар, а суфлер, высунувшись из будки, прошипел: "Эй ты, идиот! Кто тебя сюда послал? Убирайся к дьяволу!"
Я был совершенно сбит с толку оскорблениями и гневными взглядами и не знал, что делать дальше. Но потом опомнился и, продираясь сквозь Синьорию, которая в конце концов двинулась к сцене, ретировался за кулисы.
Чувство несправедливости переполняло меня, когда я, униженный, вернулся в гримуборную, чтобы освободиться от своего безразмерного одеяния и удалить хотя бы частично грим, обезобразивший мое лицо. Кое-как я нацепил свою одежду - как же я теперь был не похож на того симпатичного молодого человека, который сидел в ложе! - нахлобучил на голову шляпу, придав ей какой-то безнадежный наклон, и покинул знаменитый театр "Ла Скала", сказав себе, что если так здесь выпускают на сцену, то с меня довольно.
Самые счастливые воспоминания о маэстро Пиццетти связаны у меня с Сиеной, где в садах палаццо Киджи Сарачини я впервые исполнил его "Эпиталаму". В перерывах между репетициями мы беседовали, а мой тесть брал у него интервью. Тем временем сын композитора, Ипполито, бродил рядом - держа в руках сокола!
Я всегда мечтал спеть красивую песню Пиццетти "Пастухи" на слова Д'Аннунцио, однако никак не мог добиться, чтобы автор ее транспонировал. Каждый раз, когда мы встречались, он говорил, что необходимо внести изменения, совсем незначительные, но сделать это может только он сам. Как бы то ни было, замысел этот не удалось осуществить. Позднее мне не захотелось, чтобы песню транспонировал кто-то другой, поэтому я так ее и не спел. А дни, проведенные в Сиене, остались в моей памяти как некая идиллическая интерлюдия.
Умберто Джордано был не только прославленным композитором, но еще и красивым представительным мужчиной; в беседе он сразу же подавлял окружающих. Зная об этом, он усвоил определенную манеру разговора. Причем профессорский тон Джордано вовсе не делал его высокомерным. Человек редчайшего обаяния, он был закадычным другом Пьетро Масканьи. Они постоянно выручали друг друга в щекотливых ситуациях, когда надо было скрыть свои любовные похождения и не навлечь на себя гнев подозрительных супруг.
Маэстро Джордано испытывал ко мне добрые чувства и, должен признаться, проявлял немалое терпение. Я уже спел в его "Федоре" в "Ла Скала", Венеции и Риме, и мне захотелось принять участие в опере "Андре Шенье".
- Вы должны петь в "Федоре", - говорил он мне, - эта опера будто написана для вас.
Но я продолжал донимать его своими просьбами - мне не терпелось исполнить партию Жерара в "Шенье".
- Вы слишком молоды, - объяснял он.
- Маэстро, но я уже спел несколько партий гораздо более сложных, чем партия Жерара, - возражал я, - к тому же я играл в "Федоре" много раз.
- Так, значит, эта опера перестала вас интересовать? - обрывал меня композитор.
- Но, маэстро, я...
- Ладно, ладно. Идите работать, вы споете в следующем спектакле "Шенье".
Так оно и получилось - но только через несколько лет...
С Пьетро Масканьи я был едва знаком. Конечно, я видел его на репетициях, когда работал над партиями Франца в "Жаворонке" ("Лодолетта") и Раввина в "Друге Фрице". Он выглядел усталым, но в глазах его по-прежнему горел огонь музыки. Говорил он высоким голосом, с тосканским акцентом, обладал неистощимым запасом на редкость забавных историй и славился истинно тосканским остроумием.
Я никогда не пел в "Сельской чести", считая, что роль Альфио мне не подходит. Мои коллеги были склонны делать из этого персонажа неуклюжего и крикливого весельчака. Но все же я записал эту партию на пластинку. Помня о врожденном сицилийском чувстве собственного достоинства и желая почтить память великого маэстро, я создал образ благопристойного человека с добрым сердцем, но ревниво оберегающего свою честь; я точно следовал смыслу прекрасной музыки, старался не срываться на крик, избегая в пении чрезмерной громкости звука.
Масканьи, Джордано и, разумеется, в первую очередь Пуччини создали своего рода поствердианскую оперу, в которой наследие великого композитора получило дальнейшее развитие. Достойное место в этом ряду занимает и Франческо Чилеа. С ним меня связывала очень теплая и в определенном смысле трогательная дружба, хотя она и началась с происшествия, едва не окончившегося "сценической катастрофой".
В 1941 году я пел партию пастуха Бальтазара в опере Чилеа "Арлезианка". Но что-то стряслось с электрической системой, поднимавшей и опускавшей занавес. Вместо того чтобы оставаться опущенным в течение оркестровой увертюры, как это обычно бывает, на первых же тактах музыки занавес поднялся, открыв взору публики не только декорации, но и меня! Я стоял на коленях спиной к зрителям и разглаживал неровности покрытия под шаткой скамейкой, на которую должен был сесть, когда начнется действие.
Из-за кулис раздалось шиканье. Я сообразил, что зрители меня видят. Надо было срочно что-то предпринять.
Медленно и с явным усилием, как и подобает старому пастуху, я поднялся и сел на скамейку. Затем большим разноцветным носовым платком подал знак Дурачку, также застигнутому врасплох, чтобы он подошел ко мне. Нарочно уронив свою трубку, я заставил мальчика ее поднять и расположиться рядом со мной на траве. Потом я прошелся вокруг, собирая остальных детей, которых теперь отправлял ко мне из-за кулис постановщик.
Короче говоря, я попытался заполнить время, передвигаясь неторопливо и плавно, в такт музыке, не переигрывая при этом, пока оркестр не закончил увертюру. Маэстро Де Фабрициис последовал моему примеру и, пренебрегая паузой для аплодисментов, раздававшихся обычно, когда смолкала музыка, сразу же перешел к первой картине. Я же продолжал выступать в необычной для себя роли мима.
Публика ничего не заметила. Но маэстро Чилеа, ей-богу, был счастливейшим человеком! Дрожа от волнения, милый старик с трогательной настойчивостью убеждал всех: "Какая блестящая идея! Нет, в самом деле, блестящая идея!"
Мне повезло: почти каждый день я ездил вместе с ним в трамвае, отправляясь в оперный театр, и "неожиданное событие" стало предметом долгих и приятных бесед о том, как тщательно надо продумывать каждую мизансцену спектакля.