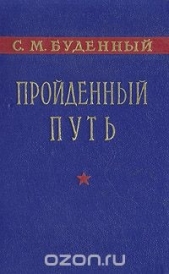Книга воспоминаний

Книга воспоминаний читать книгу онлайн
"Книга воспоминаний" известного русского востоковеда, ученого-историка, специалиста по шумерской, ассирийской и семитской культуре и языкам Игоря Михайловича Дьяконова вышла за четыре года до его смерти, последовавшей в 1999 году.
Книга написана, как можно судить из текста, в три приема. Незадолго до публикации (1995) автором дописана наиболее краткая – Последняя глава (ее объем всего 15 стр.), в которой приводится только беглый перечень послевоенных событий, – тогда как основные работы, собственно и сделавшие имя Дьяконова известным во всем мире, именно были осуществлены им в эти послевоенные десятилетия. Тут можно видеть определенный парадокс. Но можно и особый умысел автора. – Ведь эта его книга, в отличие от других, посвящена прежде всего ранним воспоминаниям, уходящему прошлому, которое и нуждается в воссоздании. Не заслуживает специального внимания в ней (или его достойно, но во вторую очередь) то, что и так уже получило какое-то отражение, например, в трудах ученого, в работах того научного сообщества, к которому Дьяконов безусловно принадлежит. На момент написания последней главы автор стоит на пороге восьмидесятилетия – эту главу он считает, по-видимому, наименее значимой в своей книге, – а сам принцип отбора фактов, тут обозначенный, как представляется, остается тем же:
“Эта глава написана через много лет после остальных и несколько иначе, чем они. Она содержит события моей жизни как ученого и члена русского общества; более личные моменты моей биографии – а среди них были и плачевные и радостные, сыгравшие большую роль в истории моей души, – почти все опущены, если они, кроме меня самого лично, касаются тех, кто еще был в живых, когда я писал эту последнюю главу”
Выражаем искреннюю благодарность за разрешение электронной публикаци — вдове И.М.Дьяконова Нине Яковлевне Дьяконовой и за помощь и консультации — Ольге Александровне Смирницкой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Из учителей мне запомнилось только трое-четверо.
Во-первых, заведующая школой — Фаина Моисеевна Пугач. Она преподавала у нас — или вернее делала вид, что преподает — обществоведение. Про нее ходил слух, что она выдвиженка из уборщиц. Не знаю, так ли это было, но это вполне возможно. Ходила она в красном кумачовом платке на седых волосах и занималась больше общественной работой и классовой борьбой, чем преподаванием. На урок она обычно являлась назадолго до звонка; не помню, чтобы она что-нибудь сообщала по программе. По большей части она ораторствовала, сверкая на нас большими, злыми, впалыми глазами. Например, она объясняла нам, что мы должны следить за дисциплиной учителей и немедленно сообщать ей об их опозданиях, а также о политических ошибках; или она сообщала нам, что школа не может уделять нам, буржуазным сынкам, классово-чуждым, особого внимания, так как главное внимание будет уделяться пролетарским детям, учащимся в младших классах. Главной ее заботой было еженедельно возобновляемое и вывешиваемое на видном месте расписание. Под конец года за целый день хорошо если бывал хоть один урок. Математики и физики окончательно разбежались, а учитель черчения, дав нам всего один урок, вскоре после Нового года умер. Но в еженедельном расписании, к нашему превеликому восторгу, значились даже в большем количестве, чем раньше, и физика, и математика, и черчение. Дело в том, что по вечерам в нашей школе занимались рабочие курсы, и перед ними нужно было показать бурную работу школок.
Во-вторых, учитель естествознания, Яровой. Он почти единственный из всех учил нас по-настоящему (генетике), — несмотря на то, что по его предмету «бригадно-лабораторный» метод проводился наиболее последовательно. Помню, как меня глубоко поразила основательность учебников по биологии и физиологии после примитивных и поверхностных учебников норвежской школы, — да, впрочем, и все учебники содержали очень много подробных сведений, по-видимому, с учетом последнего слова науки. Запомнились устные уроки Ярового, в те довольно короткие минуты, когда он говорил, а не предоставлял нам, согласно правилам «бригадно-лаборатор-ного» метода, читать, — мы сидели, раскрыв рот.
Лишь много позже я понял, что преимущества наших учебников по сравнению с норвежскими были во многом кажущимися. Все, что я учил в Норвегии, я запомнил на всю жизнь, — хоть ночью разбуди, я могу перечислить реки Франции или норвежских королей; а из того, что было в наших советских учебниках для девятого класса, не запомнилось почти ничего: какие-то обрывки — механизм уставания мышц, доминантные и рецессивные признаки, наследуемые по закону Менделя (да и то это я, скорее, запомнил по книге Филипченко, которую читал в Виннице; тогда менделизм еще не был осужден). Что еще? Там было и о доменном процессе, и о полезных ископаемых в разных странах; всего этого нельзя было запомнить, как ни интересно это было; впрочем, не все было и интересно, — например, я и до сих пор не пойму, зачем в нашей школе учат экономическую географию со всеми ее цифрами и процентами; ведь в школе надо давать тс знания, которые должны остаться неизменно на всю жизнь, а это и запомнить возможно только до вызова к доске, и будет меняться в течение всей жизни из года в год.
Возвращаясь к Яровому, надо сказать, что он еще потому был популярен, что держался с нами как-то подчеркнуто близко, даже, пожалуй, запанибрата; девочки были в него чуть-чуть, — а может быть, и не совсем чуть-чуть, — влюблены, и он явно работал на публику.
Всеобщим любимцем был и учитель физкультуры, Григоров; он учил с увлечением, весело, большинство мальчиков было спортсменами, и им он нравился. Меня же и ешс двух-трех астеников он не донимал, — и поэтому он нам тоже нравился.
Еще была маленькая, молодая учительница химии, отважно учившая нас, как ни в чем не бывало, почти без приемов «бригадно-лабораторного» метода — правда, и без опытов, так как их не на чем было ставить.
А в целом нам было не до уроков, и администрации было не до уроков, и учителям было не до уроков. Мы развлекались, начальство делало карьеру, учителя думали о том, куда итти работать, когда закроют девятые классы…
В том году всевластие ШУС'ов кончилось: вводилось единоначалие заведующего школой. Была комсомольская организация, комсомольские собрания, — но чем они занимались, я не знаю; до нас они не касались. Класс резко делился на комсомольцев и интеллигенцию. Вожаком комсомольцев была Маруся Шкапина; она ходила в «юнгштурмовкс», глядела на нас сжигающим взором небывало голубых глаз и с нами не разговаривала. Большинство комсомольцев казалось мне довольно неинтересными, мало способными ребятами. Им до меня не было дела, а мне до них. Ярче других был Александр Цейтлин. Цейтлин был из интеллигентов, а комсомольцем был из карьерных побуждений. Его демагогия и подхалимство, коварная ласковость и легкость в предательстве до того бросались в глаза, что иметь с ним дела не хотелось никому.
Ребята из 190-ой школы составляли ядро интеллигентской части класса. Душой их был маленький, большеглазый, курчавый и русый Оська Финксль-штсйн. Щуплый, некрасивый, рябоватый и с дурными зубами, он не мог завоевать популярности успехами в спорте или томными взглядами в сторону девушек; зато он был неистощимо остроумен; он не пленял сердец, но забавлял; и стал бы клоуном класса, если бы не был всех умнее. Острил он с каменным лицом, задумчивым, немного протяжным голосом; и ему принадлежало решающее слово во всех затеях и конфликтах. Впрочем, он был скептик и, может быть, немного циник — таков был, в общем, дух всей этой компании.
Другой, которого тоже любили, не влюбляясь, был Сережа Лозинский, сын знаменитого поэта-переводчика. Самый длинный в классе, — неуклюже-длинный, с длинным, неподвижным дицом, которое только изредка дрогнет, и на нем появится добрая улыбка, — он отличался большими странностями. То, бывало, он выбрасывает из себя одну остроумную реплику за другой, — какие-то сравнения и цитаты ужасно к месту, — а был он необыкновенно начитан и образован; а то молчит, не отвечает на обращенную к нему речь, как будто не слышит и не видит тебя. Он был блестящий математик, и вообще все знал, и ребята часто — особенно в начале, пока в школе еще учились, — прибегали к нему за помощью, и он охотно всем помогал; но в то же время он был вечной мишенью разных розыгрышей и проделок. Не хуже других, он играл с ребятами в «очко» и принимал участие в общем трепе и прочих затеях — кроме спортивных. «Очко» было очень распространено в классе, и Сережа Лозинский был одним из сильных, отъявленных картежников; как-то раз кто-то его встретил уже под утро на Камснноостровском — он шел, и на лице его была написана твердая решимость. Оказалось, что он играл всю ночь у кого-то из товарищей, и только что дал зарок бросить карты.
Оська и Сережа придавали компании прелесть, одухотворяли ее, делали ее веселой и остроумной; но костяк составляли не они. Это были Вовка Касаткин, Володя Толярснко, Димка Войташсвский и Коля Зссбсрг, не претендовавшие ни на высшую интеллигентность, ни на особую тонкость остроумия. Это были способные ребята, спортсмены, хорошие, дружные товарищи. Девочки влюблялись именно в них.
«Жён-прсмьсром» компании был Вовка Касаткин, черный, с союзными бровями, ловкий, порядком циничный, немного свысока смотревший на таких как Оська или я, да и на Сережу. Многие девочки вздыхали по нем, но роман у него был с Милой Мангуби, переведенной среди года из 8-го в 9-ый класс, тоже из компании 190-й школы, — хорошенькой караимкой, но несколько чужой не только для комсомольцев, но и для нас, — потому что делала маникюр и (вне школы), по слухам, красила губы, хотя в этом не было ровно никакой необходимости.
К этой компании тянулся и я, и еще кто-то из ребят: наивный и веселый Кирилл Шуркин и русский богатырь Вася Скачков.
О Скачковс мне хочется рассказать подробнее. Внкокий, добродушный, с белыми как лен волосами, с огромными ручищами, он был очень способным, особенно по математике, но с интеллигенцией он не имел ничего общего; зато по ходу его разговоров было видно, что он хорошо знает крестьянский быт; было непонятно, почему он тянется к нам; и вообще, в его жизненной позиции для меня было что-то загадочное. Я тоже невольно тянулся к нему, как тянутся юноши к тем, кто близки им по годам, но старше по опыту. По анкете он был крестьянин-середняк. Я как-то был у него дома, и был поражен увиденным: в большой, пустой комнате где-то на чердаке бывшего доходного дома человек десять-пятнадцать спали вповалку на полу; вещей не было никаких; было ясно, что в городе эта семья — оторванная от корней. Вася очень неясно говорил о том, как попал в город, и вообще не любил упоминать о себе и своих. Числился он комсомольцем, но держался в стороне от комсомола, всегда с нами. Мне он сказал, что когда наша комсомольская организация снималась на групповую фотографию, он, когда фотограф нажал на спуск, присел в заднем ряду, чтобы не попасть на снимок. Меня это покоробило — если тебе неприятно быть среди комсомольцев, зачем же вступать в комсомол? А в то же время не было более доброго и верного товарища, более добродушного, дружелюбного парня, чем Вася Скачков. Он, один из немногих, учился серьезно и упорно, и во всем был необыкновенно добродетелен. Когда мы с Сережей Лозинским выпустили рукописный сборник афоризмов и стихотворных эпиграмм, посвященных всем рабятам класса (не исключая и самих себя), то Скачкову Сережа посвятил латинскую (!) эпитафию Ньютона «Да поздравят себя смертные, что толикос существовало рода человеческого украшение». Но если Сережа Лозинский поражал нас латинскими цитатами, то Вася Скачков лишь втайне мне, как лучшему другу, показывал свои русские стихи… в них не было ни складу, ни ладу, ни смысла, ни элементарной грамотности; такие стихи идут потоком в литературные консультации; уж не помню, какие вежливые замечания о русском стихосложении я сделал Скачкову.