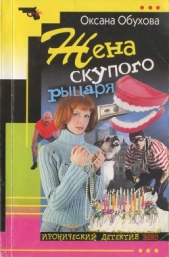За полвека. Воспоминания

За полвека. Воспоминания читать книгу онлайн
Петр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921), создатель русского слова `интеллигент`, автор популярнейших романов: `Дельцы`, `Китай-город`, `Василий Теркин` и многих других, был `европеец не только по манерам, привычкам, образованности и близкому знакомству с заграничной жизнью, но европеец в лучшем смысле слова, служивший всю жизнь высшим идеалам общечеловеческой культуры, без национальной, племенной и религиозной исключительности. Вдумчивая отзывчивость на злобу дня... требует большой наблюдательности. И этим качеством Боборыкин обладал в высшей степени. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки... русских людей у себя и за границей изображены им с занимательной точностью и подробностями`.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Отношения у нас установились деловые, а не товарищеские. Он был гораздо старше меня летами, да и вообще не склонен был к скорому товарищескому сближению, и только со своими москвичами — «кутилами-мучениками», как Якушкин и Ал. Григорьев, водил дружбу и был с ними на «ты».
Влиять я на него не мог: он слишком держался своих взглядов и оценок. «Заказывать» ему статьи было нельзя по той же причине. Работал он медленно, никогда вперед ничего не сообщал о выборе того, о чем будет писать, и о программе своей статьи.
Вот почему он не к каждой книжке приготовлял статьи на чисто литературные темы.
В числе его первых этюдов была рецензия «Казаков» Толстого. И в ней он выказал свое чутье, вкус, понимание того, что это была за вещь как художественное произведение.
А не нужно забывать, что «Казаки» не вызвали в петербургской радикальной критике энтузиазма и даже просто таких оценок, каких они заслуживали. На них посматривали как на что-то почти реакционное, так как автор восторгался дикими нравами своих казаков и этим самым как бы восставал против интеллигенции и культуры.
Эдельсон был очень серьезный, начитанный и чуткий литературный критик, и явись он в настоящее время, никто бы ему не поставил в вину его направления. Но он вовсе не замыкался в область одной эстетики. По университетскому образованию он имел сведения и по естественным наукам, и по вопросам политическим, и некоторые его статьи, написанные, как всегда, по собственной инициативе, касались разных вопросов, далеких от чисто эстетической сферы.
Он переехал на житье в Петербург, давно обзаведясь семьей, и оставался членом редакции журнала вплоть до самого конца.
Когда к 1864 году он узнал, в каких денежных тисках находилось уже издание, он пришел ко мне и предложил мне сделать у него заем в виде акций какой-то железной дороги. И все это он сделал очень просто, как хороший человек, с соблюдением все того же неизменного джентльменства.
Долг этот был рассрочен на много лет, и я его выплачивал его семейству, когда его уже не было на свете. Со второй половины 1865 года я его уже не видал.
Смерть его ускорил, вероятно, тот русский недуг, которым он страдал.
Когда-нибудь и эта скромная литературная личность будет оценена. По своей подготовке, уму и вкусу он был уже никак не ниже тогдашних своих собратов по критике (не исключая и критиков «Современника», «Эпохи» и «Русского слова»). Но в нем не оказалось ничего боевого, блестящего, задорного, ничего такого, что можно бы было противопоставить такому идолу тогдашней молодежи, как Писарев.
И журналу он придавал слишком серьезный, спокойный, резонерский тон.
В «Библиотеке для чтения» при Писемском присяжным критиком считался Еф. Зарин. И его я получил вместе с журналом. Но я ему не предложил литературно-критического отдела. Он писал по публицистике, по тогдашним злобам дня. У него завязалась перед тем полемика с Чернышевским. Это тоже не могло поднимать престиж журнала у молодой публики. И его «направление» не носило на себе достаточно яркой окраски.
Да и сама личность отзывалась, когда я к нему стал присматриваться, чем-то не тогдашним, не Петербургом и Москвой 60-х годов, а смесью некоторого либерализма с недостаточным пониманием того, к чему льнуло тогда передовое русское общество.
Кажется, он происходил из духовного звания, воспитался и учился в провинции, в Пензе, вряд ли прошел через университет, держался особняком, совсем не был вхож в тогдашние бойкие журнальные кружки.
Через него я не мог бы расширить круг талантливых и смелых сотрудников.
Но он был хотя и кропотливый, но дельный работник. И если б не его, быть может, слишком высокое мнение о себе, он мог бы выработаться в хорошего публициста.
Его статья о проекте земских учреждений считалась замечательной, и он при мне в конторе «Библиотеки для чтения» сообщал с гордостью, что этой статьи потребовали пятнадцать оттисков в Государственный совет.
У нас с ним, сколько помню, не вышло никаких столкновений, но когда именно и куда он ушел из журнала — не могу точно определить. Знаю только то, что не встречался с ним ни до 70-х годов, ни позднее. И смерть его прошла для меня незамеченной. Если не ошибаюсь, молодой писатель с этой фамилией — его сын.
Во всяком случае, Еф. Зарин не участвовал в дальнейшей судьбе журнала. Но если б он стал в нем играть первенствующую роль, то вряд ли бы от этого дело пошло в гору.
С журналом получил я еще двух сотрудников, постоянно печатавшихся в «Библиотеке»,
— Щеглова и Воскобойникова.
Щеглов писал по разным вопросам и стал известным своими статьями о системах социалистов и коммунистов — разумеется, в духе буржуазной критики.
До того я с ним не встречался. Он мне не нравился всем своим видом и тоном. От него «отшибало» семинаристом, и его литературная бойкость была на подкладке гораздо больше личного задора и злобности, чем каких-либо прочных и двигательных принципов.
Я сразу почувствовал, что это — «не мой человек» и что его бойкость и некоторая начитанность идут в сторону, которая может вредить журналу, какой я хотел вести, то есть орган широко либеральный, хотя и без революционно-социалистического оттенка.
Щеглов служил преподавателем (кажется, истории) в одной из петербургских гимназий, и в нем была какая-то смесь «семинара» с учителем, каких я помнил еще из моих школьных годов.
Пока не было еще повода устранять его; но к концу года он уже не состоял ни в членах редакции, ни в постоянных сотрудниках.
И с ним, как и с Еф. Зариным, никакого резкого столкновения у меня не вышло. Мое внутреннее чутье подсказывало мне, что скорее рано, чем поздно, придется вступить с ним в борьбу и пререкания.
Самый тип такого господина говорил о том, что он должен в скором времени очутиться в чиновничьем стане, что и случилось. И по министерству народного просвещения он стал служить с отличием и, начав критикой С.Симона, Оуэна, Кабе и П.Леру, кончил благонамеренным и злобным консерватизмом ученого «чинуша» в каком-то комитете.
Его дальнейшая судьба меня ни малейше не интересовала.
По своему обличию, тону, манерам, жаргону он мог служить крайней противоположностью с Эдельсоном. Насколько первый был «хамоват», настолько второй — джентльмен, с неизменной корректностью тона, языка и манеры одеваться.
С Воскобойниковым у меня вышли, напротив, продолжительные сношения, и он, быть может и против воли, сделался участником той борьбы, которую «Библиотека» должна была вести с «равнодушием публики», употребляя знаменитую фразу, которою пустила редакция московского журнала «Атеней», когда прекращала свое существование.
В «Библиотеке» он выступал как полемист и в полемике с Чернышевским оказался не в авантаже. Как фельетонист, до моего редакторства, я говорил в шутливом тоне об этих полемических победах Чернышевского.
Воскобойников как будто водил приятельство с Щегловым, но заглазно любил пройтись насчет его язвительно. Как тип тогдашнего интеллигента, попавшего в журнализм, он представлял из себя довольно своеобразную фигуру.
По внешности имел он совершенно штатский вид, а незадолго перед тем он носил еще военную форму инженера путей сообщения, то есть каску, аксельбанты и шпоры.
Тогда «путейцы» считались офицерами и воспитание получали кадетское.
Воображаю, каким комическим рыцарем смотрел он в полной форме и в каске с черным султаном из конского волоса! Он был малого роста, неловкий в движениях, чрезвычайно нервный, всегда небрежно одетый, с беспорядочной бородкой и длинной шевелюрой.
Насчет длинных волос он сам рассказывал, бывало, в редакции, как тогдашний начальник путей сообщения раз, когда он дежурил у него в приемной, подвел его к зеркалу и сказал поучительно:
— Господин поручик! Полюбуйтесь вашими волосами. Рекомендую вам обстричь их!..
Тон у него был отрывистый, выговор с сильной картавостью на звуке «р». С бойким умом и находчивостью, он и в разговоре склонен был к полемике; но никаких грубых резкостей никогда себе не позволял. В нем все-таки чувствовалась известного рода воспитанность. И со мной он всегда держался корректно, не позволял себе никакой фамильярности, даже и тогда — год спустя и больше, — когда фактическое заведование журналом, особенно по хозяйственной части, перешло в его руки.