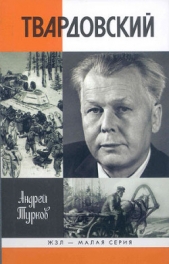Родина и чужбина

Родина и чужбина читать книгу онлайн
Воспоминания родного брата поэта Александра Твардовского. Раскулачивание, ссылка, плен, лагеря - в общем обычная жизнь в России 20 века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ты о чем, Костя, зажурился? — спросила Евдокия Кононовна.
— Э-э, Дуся! Тут совсем другое… Давайте выпьем по чарке!
Константин не имел пристрастия к спиртному на протяжении всей своей жизни, а в те далекие предвоенные годы — тем более. Очень редко, лишь по особым случаям, он позволял себе выпить чарку вина, да и то только с близкими, дорогими людьми. По молодости курил, но потом, в возрасте тридцати с чем-то лет, навсегда отказался от этой привычки. Стоически твердый в отношении раз и навсегда принятого решения и убеждений, он в то же время бывал несдержанным и прямолинейным, никогда «дипломатично» не останавливался перед вопросом, удобно или нет высказать правду. Правда была основой всей его жизни, и он никогда и ни перед кем не угодничал. Константин совершенно не терпел всякого рода делячества, бесчестия и мещанско-обывательского пристрастия. Эти качества его характера нередко оборачивались для него обостренными отношениями с людьми, ставящими личное благополучие превыше всего, идущими порой на сделку с совестью.
На вопрос Евдокии Кононовны: "Ты о чем, Костя, зажурился?" — брат не стал отвечать за столом, видимо, не хотел при жене касаться глубоко личного. Однако он не выказал себя и чем-то огорченным — оставался радостно настроенным и нашу беседу направлял на безобидные воспоминания об отце, о житии ушедших и обо всем том, что может заполнить вакуум в непосредственном общении. Отдав должное наспех организованному застолью, брат осведомился:
— Не лучше ли, Иван, отдохнуть тебе?
Но я отказался и предложил пойти посмотреть жизнь местного населения как она есть.
Мы вышли на улицу, в полдень ставропольского сентября, показалось непривычно жарко, и я, признаться, посожалел, что не принял предложения отдохнуть; но тут же отвлекся: брат начал рассказ.
— Понимаешь, Иван, как бывает порой невыносимо больно сознавать свое положение… — говорил он. — Живу, как видишь, в нужде, как безродный пришелец, а в душе я — истинный патриот, и когда случилось читать мне "За тысячу верст", то и передать тебе не могу, как это стихотворение меня тронуло! И надо же было Александру так точно передать голос души! Только сказать: "За тысячу верст от родного порога проселочной, белой запахнет дорогой", или: "Ольховой, лозовой листвой засыпленной, запаханным паром, отавой зеленой; картофельным цветом, желтеющим льном и теплым зерном на току земляном". Ну как тут не заноет сердце?! — продолжал он. — Вот она, жизнь и поэзия жизни! Но Александр — поэт, и ему дано все, чтоб голос его был слышен миллионам! И конечно же я рад, что он одарен щедро, но… ты знаешь, вот уже почти десять лет, как от него не получаю ни строчки, ни слова. Но нет, я не совсем точен. Вот как было. — Он прервал свой рассказ и заметил: — А хутор-то у нас позади… Вот она и степь перед нами! Но это, пожалуй, и хорошо, что в степи оказались: мы двое в степи, никто нам не мешает. Так вот слушай! Был такой период, еще в Прочноокопской. Там я так доработался, что обносился до самого краю. И вспомнить неловко: штаны в дырах, и кальсонов на мне не было. Ну, а чтобы как-то их зашить, подлатать, представь, просто не было возможности где-либо укрыться от людских глаз, — штаны ведь надо снять. Вот и уходил я в степь, чтобы никто не видел меня. И, понимаешь, показалось, что если уйти подальше, то полная гарантия, что никто тебя не видит, а ты — наоборот, хорошо видишь, что близко никого нет. Вот, брат, какая беда у меня была. Да, знаешь, думал-думал я, как быть, как выйти из положения, да и решил написать Александру. Попросил у него несколько рублей денег, так прямо и пояснил в письме, что обращаюсь по крайней нужде. И знаешь, что он ответил мне? "Нужно рассчитывать на свои силы". Так, Ваня, горько мне было и стыд меня мучил — забыть не могу, — места себе не находил, ругал себя, что ошибку такую сделал. Ну вот и все. Выход, конечно, нашелся, но не так-то сразу. Выручила меня теперешняя жена — Дуся. Но тогда-то она не была моей женой, да и знакомой назвать ее не мог я. Рассказал ей, что вынужден уйти из колхоза, на время, чтобы поработать где-либо за деньги. Да и о том, сказал, что нет ни рубля, дескать, на первый же день. Дала она мне денег и сказала: "Будут — отдашь, а не отдашь — тоже не велика беда". Да ведь и у нее же, я понимал, это были не деньги — копейки, сбереженные великим терпением. Вот тогда и поехал в леса Усть-Лабы, на заготовку дров. Она же, Дуся, и посоветовала мне так сделать. Так вот и стала она дорогим для меня человеком-другом, о котором начал думать с волнением…
Утром следующего дня (кажется, это было 17 сентября) мы узнали из газет, что Красная Армия начала освободительный поход в Западную Белоруссию и Западную Украину. Это было столь значительное событие, что наши беседы приняли совсем иной характер: ожидать можно было самого непредвиденного поворота, и я заторопился к своей семье на Урал.
Возвращался я поездом "Минеральные Воды — Свердловск", минуя Москву. То были первые дни похода Красной Армии, и этими новостями жила вся страна, в том числе и находящиеся в пути: мы не были лишены возможности слышать передаваемые по радио последние известия об освобождении наших братьев из-под панского гнета. Но народ приветствовал и одобрял действия Красной Армии. В общем, из всего, что происходило, еще не было повода для больших тревог, в сообщениях не указывалось о серьезных и тяжелых боях, и все было как бы на оптимистической ноте, народ чувствовал себя вполне спокойно.
И вот я дома, в своей родной семье. Как хорошо и дорого так вот войти в свое скромное жилище, где тебя ждут, где ты нужен, где спит твой маленький сын и ты отдаешь ему свою любовь и свою скопившуюся радость: видеть его, сердцем и мыслью пожелать здоровья и счастья.
Осенью 1939 года завод, строительство которого вела контора номер четыре треста «Уралмашстрой», вступал в строй действующих. Железнодорожный отдел был передан в ведение завода. Таким образом, из строительной организации я был автоматически переведен в транспортный отдел завода оборонной промышленности. Сам факт перевода меня в ведение администрации завода мог бы меня только порадовать, но я не мог не иметь в виду, что отдел кадров и спецчасть завода непременно обяжут пройти переоформление, где вновь придется заполнять анкету с множеством уже известных мне вопросов: социальное происхождение, причастность родителей — были ли связи, отношения и прочее и так далее, что неминуемо может закончиться так же, как на «Можерезе». И слухи об этом уже имели место, что не предвещало благополучии и не снимало озабоченности. И хотя на службе все пока шло прежним порядком, втайне, не делясь даже с женой, я постоянно чувствовал тяжесть социальной несправедливости и душевной угнетенности, не видя даже в отдаленности выхода из этого заколдованного круга судьбы.