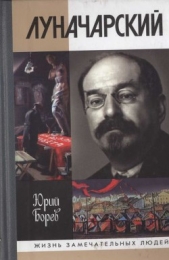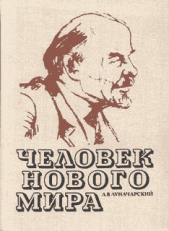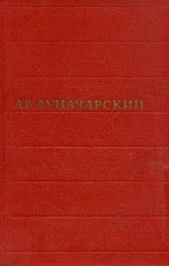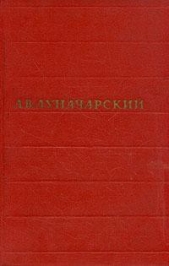Воспоминания и впечатления

Воспоминания и впечатления читать книгу онлайн
Помимо воспоминаний в обычном смысле этого слова, написанных значительно позже совершившихся событий, в настоящую книгу включены и некоторые очерки, являющиеся записями и зарисовками впечатлений и наблюдений автора по горячим следам происходящего, как бы страницами из его записной книжки. Таковы, например, очерки «Первое мая 1918 года», «У Ромена Роллана» и другие.
Наряду с законченными статьями-воспоминаниями в книгу вошли о небольшие мемуарные фрагменты из статей другого характера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вся наружность Станиславского построена по его собственному принципу — от внутреннего к внешнему. Станиславский наружно находится в глубочайшем соответствии с превосходным строением своего сознания, своей психики.
Я смотрю на него, когда он со своей чуть-чуть как будто смущенной улыбкой говорит мне знаменательную фразу: «Анатолий Васильевич, я же ни в каком случае не против революции. Я очень хорошо сознаю, что в ней много священного и глубокого. Я прекрасно чувствую, какие она несет с собой высокие идеи и напряженные чувства. Но чего мы боимся? Мы боимся, что эта музыка нового мира еще долго не найдет себе выражения в художественном слове, в художественной драматургии. По крайней мере до сих пор мы этого не видим, а если нам, театру, дадут несовершенный, косноязычный, сухой, искусственный материал, то, как бы ни был он публицистически согласован с высокими идеями революции, этими идеями мы театру не сможем дать должного звучания: мы не сможем как театр, как художники послужить революции, оказаться ее рупором, а сами себя, свое искусство мы снизим, потому что нельзя музыкантов, прошедших уже известную школу, достигших высокой музыкальной культуры, заставить играть школьные вещи, незрелые, лишенные жизни. Пушкин говорил про то, как может быть разыгран «Фрейшиц» перстами робких учениц 2. Но, по-моему, это полгоря. А вот настоящее горе, если мастерам приходится играть не «Фрейшиц», а малограмотные попытки отразить крупнейшие жизненные явления».
Конечно, сказанной фразы никогда не передашь через десять лет с полной точностью. Но за полную точность содержания того, что мне было тогда сказано, и за большинство выражений, которые я сейчас привожу, я вполне ручаюсь.
И я почувствовал огромную искренность этого большого художника. Я почувствовал его растерянность: отвергнешь революционный репертуар — тогда еще действительно совсем детский, — и тебе скажут: куда же годится твой великолепный театр, твой замечательный инструмент, который ты с таким старанием построил, если после переворота, теперь, когда родился и начал развиваться новый мир, этот инструмент не может больше отвечать своему назначению и разве только, как старая, хотя бы хорошая, шарманка, может вертеть валики прошлого. Пойдешь на уступки, скажешь: давайте сюда то, что у вас написано, мы постараемся это сыграть, — что же выйдет? Фальшью прозвучит для всех несовершенный материал, и скорей всего в этой фальши обвинят именно театр. Скажут: старики, могикане отходящей культуры, не смогли, а может быть, еще хуже того, не захотели, чтобы новые идеи зазвучали. Те же — что здесь для Станиславского очень важно — старые друзья, люди высокоэстетических требований, люди большой художественной совести, скажут: да что же это сделалось с Художественным театром? Разве то, что он теперь делает, это искусство?
Вересаев читал нам свою пьесу 3. Это тоже было уже давно. Пьеса была ни хороша, ни дурна, но, во всяком случае, написана с той степенью мастерства, которое является естественным для уже маститого писателя, для подлинного специалиста литературы. После чтения началась дискуссия. В ней выступил и Станиславский, и опять он, большой, даже монументальный со своей седой головой мудреца и со своей смущенной улыбкой, которая вовсе не соответствует внутренней робости или нерешительности, а которая является скорей выражением вежливости огромного человека в беседе с ближним, говорит:
— Что мне нравится в вашей пьесе, Викентий Викентьевич, это то, что она жива, это живые люди, это живая речь. Иной раз автор, исходя из очень хороших предпосылок, хочет доказать некое хорошее. У него в сознании бродят всякие важные идеи, из всего этого он составляет в конце концов такой лабораторный химический состав, такой какой-то апопонакс. Знаете, Викентий Викентьевич, есть духи, которые пахнут живыми цветами — сиренью, акацией. А есть вот такой апопонакс. Черт его знает, что это значит. Но я не люблю таких запахов.
Когда Станиславский говорил это, он, вероятно, и даже наверно, не думал, как он близко подошел к суждениям Маркса о театре. Ведь это Маркс (а равно и Энгельс) в знаменитых письмах к Лассалю по поводу драмы последнего осудил даже Шиллера 4 (никогда не будем забывать гигантского драматурга) за то, что он, выражаясь термином Станиславского, «апопонаксил». Они противопоставили ему Шекспира, поскольку у него все живет, и эта жизненность Шекспира, эта глубочайшая диалектическая правдивость его пьес казалась им говорящей и правильным отражением взаимоотношений классов изображаемой эпохи, правильным выражением отдельными персонажами классовой сущности. Шекспир этих терминов не знал. Шекспир этой стороной дела не интересовался. Но так как он был художником-диалектиком, так как он черпал из жизни и почерпнутое превращал в нечто еще более жизненное, чем сама жизнь, концентрируя ее краски, то и получилась такая драматургия, которую Маркс и Энгельс объявили близкой для себя и образцовой для театра будущего.
Но Энгельс, говоря об этом театре будущего и мало надеясь, что вполне удовлетворяющая его драматургия возникнет в Германии, говорил о том, что она будет отличаться шекспировским богатством красок по форме при глубоко научном анализе подлежащих изображению общественных явлений 5. Энгельсу хотелось, чтобы драматург был марксистом, был революционером, но чтобы вместе с тем он был все-таки художником. Одно другому может не только не мешать, но одно другому непременно должно помогать в условиях действительно нормальных. Но эти нормальные условия приходят только тогда, когда пролетарская революция уже победила политически, да и то приходят не сразу, а постепенно, как мы это очень хорошо видели на нашем собственном примере…
Я слышал такой превосходный анекдот и надеюсь, что он правдив. Один драматург, разговаривая с вождем нашей партии, сказал в ответ на упрек в недостаче высокой продукции: «Ну, что же делать? Мы не Шекспиры». На что вождь будто бы ответил (и хорошо, если ответил так): «А почему же вы не Шекспиры? Это ваша вина. Разве наша эпоха не гораздо выше эпохи Шекспира? И почему же ей не иметь драматического голоса еще более мощного, чем Шекспир».
И мы будем иметь своих Шекспиров. Мы не можем не иметь своих Шекспиров. Может быть, они придут несколько позже, но они придут.
И в день семидесятилетия Константина Сергеевича, и в день пятидесятилетия его богатой, всему свету видной, в десятках стран восторженно оцененной и в нашей истории столь огромной художественной деятельности я больше всего желаю ему, чтобы он дошел до полного, безраздельного убеждения, что замечательный инструмент, им построенный с великим терпением, с великим благоговением, был на самом деле построен им для того (хотя он и не сознавал этого), чтобы оказаться инструментом великой революции, начала революции мировой…
<1933>
Три встречи. Из воспоминаний об ушедших *
Это было впервые после Октября, зимой, не помню точно в каком месяце. Во всяком случае, незадолго до этого я окончательно занял министерство народного просвещения по Чернышевскому переулку. 1 Еще почти не было у меня никаких чиновников, — одни курьеры да ответственные работники, — но уже закипела жизнь, уже начали восстанавливаться бесчисленные социальные провода, которые должны были соединить рождающийся Наркомпрос со всем просветительным миром в громадной стране.
И вот однажды ко мне явился кто-то, — уже не помню ни фамилии, ни даже облика, ни пола, — с таким заявлением: Анатолий Федорович Кони очень хотел бы познакомиться с вами и побеседовать. 2 К сожалению, он сильно болен, плохо ходит, а откладывать беседу ему не хотелось бы. Он надеется, что вы будете так любезны заехать к нему на часок. При этом передан был его адрес. Я, конечно, прекрасно понимал всю исключительную значительность этого блестящего либерала, занявшего одно из самых первых мест в нашем передовом судебном мире эпохи царей. Мне самому чрезвычайно хотелось видеть маститого старца и знать, что, собственно, хочет он мне сказать, мне — пролетарскому наркому, начинающему свою деятельность в такой небывалой мировой обстановке.