Портреты пером
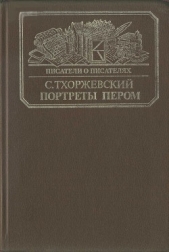
Портреты пером читать книгу онлайн
Художественно-документальные повести посвящены русским писателям — В. Г. Теплякову, А. П. Баласогло, Я. П. Полонскому. Оригинальные, самобытные поэты, они сыграли определенную роль в развитии русской культуры и общественного движения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сохранилось и черновое письмо его, написанное несколько позже: «Боже, я готов за один поцелуй Ваш отдать половину жизни моей… Вдруг слышу, что другой, не любя Вас, не страдая, даже не думая о Вас… говорят, что даром пользуется тем правом, за которое я готов платить так дорого».
Этим другим оказался его приятель Михаил Кублицкий.
В бумагах Кублицкого уцелело письмо, которое потом попало к Полонскому, — не знаем только, когда именно.
«Хотя целою жизнью не изгладится из души моей воспоминание про вчерашнюю сцену, — писала Кублицкому Евгения Сатина, — хоть тяжело и больно мне, и моя гордость страдает больше Вашей, но я хочу доказать, что и публичной потерянной женщине доступны иногда чувства благородные. Я не буду злопамятною, приду к Вам, но я буду у Вас, как у человека любимого, как у человека, которого я любила, может быть, в первый раз в жизни истинно и который втоптал меня в грязь…»
И была у нее встреча с Полонским — еще одна, он рассказал о ней стихами:
Выражение «погибшее, но милое созданье» он заимствовал из пушкинского «Пира во время чумы».
«Я еще в университете, — невесело писал он Орлову в марте 1844 года. — Хожу по утрам на лекции в чужом короткорукавом сертучишке и в изорванной фуражке, как точно вырвавшийся из кабака. Забулдыгой этаким пробираюсь в университете сквозь толпу незнакомых мне студентов-товарищей. Никому не подаю руки, никому не кланяюсь — забиваюсь на заднюю скамейку, высиживаю положенные часы и отправляюсь домой…
Я скажу тебе, что меня всего ужаснее мучит и беспокоит, и терзает. Приехал я в Москву [летом ездил к дяде в Рязанскую губернию] с 15-ю рублями в кармане, в одной дорожной венгерке, я просто пропадал. Платья никакого, за квартиру платить нечего…
У отца просить совестно — и грустно, — в мои лета я желал бы сам посылать ему. Он же ничего не щадит, чтобы воспитывать сестру мою, — платит фортепьянному учителю. Мне найти уроки и получать за это деньги теперь нет никакой возможности — скоро экзамен — на плечах 7 юридических предметов — все время рассчитано математически.
…Григорьев с прошедшего воскресенья не существует в Москве… Тайно от отца и матери — в сопровождении некоторых друзей своих — вышел из дому, сел в дилижанс и уехал. Он был секретарем университетского Совета, получал жалованье 2200 рублей [в год], но это жалованье у него брали отец и мать — у него не было ни копейки, он взял тайно отпуск, заложил все свои вещи — за 200 рублей, — сжег свой дневник, написал к отцу письмо и велел его отдать на другой день отъезда. Когда он выходил из комнаты, его спросили: — Григорьев! Что ты чувствуешь, выходя из этой комнаты, где протекла вся твоя молодость? — Он отвечал гордо: — Я ничего не чувствую — я чувствую одно только гордое сознание, что с этой минуты я делаюсь человеком самостоятельным и свою волю не подчиняю ничьей воле».
И уехал в Петербург.
«Не мне, — пишет Полонский в воспоминаниях, — первому пришло в голову собрать мои стихотворения, а Щепкину, сыну великого актера, блистательно окончившему курс по математическому факультету. Он жил у барона Шепинга в качестве воспитателя и наставника его единственного сына.
— Все это надо собрать и издать, — сказал он мне. — Соберите все, что вы написали, и приносите.
— А на какие деньги буду я это издавать? — возразил я.
— А издадим по подписке.
— Как по подписке?
— Да так: соберем человек сто подписчиков по рублю за экземпляр и издадим.
Долго и нелегко велась эта подписка. Даже в Английском клубе, как я слышал, нелегко расставались с рублем ради каких-то стишков те господа, которым проиграть несколько тысяч в карты ничего не стоило. Но, как бы то ни было, денег собрано было столько, что издать мои „Гаммы“ нашлась возможность, и они вышли в свет почти в тот день, когда я кончил мои последние выпускные экзамены».
Под названием «Гаммы» вышел из печати его первый сборник стихов.
Жил в Москве писатель Александр Фомич Вельтман, в то время человек уже немолодой, с проседью в поредевших волосах, «настолько же умный, насколько и добрый» — таким он запомнился Полонскому. Познакомились они в доме Орловых, потом как-то встретились на улице, и Вельтман пригласил Полонского к себе. С тех пор они виделись часто. «Я во всякое время, — вспоминает Полонский, — мог заходить к нему, и, если он был занят за своим письменным столом, я с книгою в руках садился на диван и безмолвствовал».
В сочинениях Вельтмана причудливо смешивались реальность и фантастика, мыслил он оригинально. И в разговорах с Полонским, например, утверждал:
— Нашими постройками, рытьем канав, бурением колодцев, минами мы только причиняем вред нашей земле как планете — она живой организм и так же страдает, как если бы нас кололи и резали. Когда-нибудь земля за это накажет нас.
Это был человек с необычайно живым воображением, оттого-то и тянулся к нему молодой Полонский.
В октябре 1844 года «Отечественные записки» напечатали одобрительный отзыв о книжке «Гаммы». Полонский страшно обрадовался.
— Поздравляю, — добродушно улыбаясь, сказал ему Вельтман. — Но вот что я скажу вам… Верьте мне: как бы вы сами ни были даровиты и талантливы, вас никто в толпе не заметит или заметят очень немногие, если другие не поднимут вас.
Неужели он прав? Значит, надо уповать на то, что критики станут поднимать тебя на щит?.. Слова Вельтмана смутили Полонского и врезались ему в память.
Теперь притягательным для молодого поэта был еще дом знакомого доктора Постникова. В этом доме поселилась родственница доктора Мария Михайловна Полонская (с Яковом Полонским она и муж ее оказались лишь однофамильцами, никак не в родстве). К ней постоянно приходила младшая сестра ее Соня Коризна, красивая белокурая девушка. Ей было семнадцать лет.
«Страстная, недюжинная по уму и насмешливо остроумная, — вспоминает Полонский, — она всю массу своих поклонников раз при мне назвала своим зверинцем. „А если так, — заметил я, — я никогда не буду в их числе, уверяю вас…“ Помню летние лунные ночи, когда в саду оставались мы вдвоем; она говорила со мной так загадочно и, не упоминая ни словом о любви, дразнила меня одними намеками. Помню, как однажды ночью в густой тени деревьев я зажег спичку, будто бы для того, чтобы закурить сигару, а на самом деле, чтобы на миг осветить лицо ее, всех и каждого поражающее красотой».
«Влюбленный без памяти, при ней я притворялся холодным», — признавался он потом. «Увлечь девушку было не в моих правилах, а жениться я не мог, так как и она была бедна, и я был беден… Я еще не служил и не желал служить… Да и мог ли я думать о женитьбе, когда, вышедши из университета и нуждаясь в партикулярном платье, я вынужден был продать золотые часы свои, полученные мною в дар в то время, когда я был еще в шестом классе гимназии».
Друг его Игнатий Уманец предостерегал его от женитьбы «или от такого шага, от которого оставался бы один шаг до брака», и советовал уехать в Одессу. В одесской таможне служил старший брат Игнатия, Александр, сейчас он был в Москве, собирался в ближайшие дни возвращаться в Одессу и выражал готовность быть попутчиком Полонскому.

























